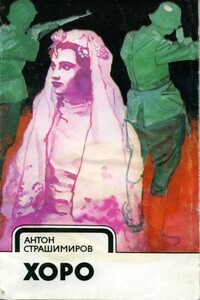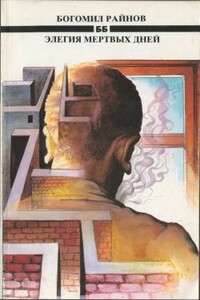Проклятая земля | страница 63
Закон гласил, что лучше муэдзину быть слепым, дабы с высоты минарета не заглядывал он в чужие дворы. Тем важнее было соблюсти это требование на холме, поскольку с минарета мечети можно было видеть дальше обычного, и множество тайн могло открыться взору. Но Юсеф-паша догадывался и о скрытом смысле закона. Теряя зрение, священнослужитель приобретал духовное видение, способность проникнуть в селения аллаха, подняться к невиданным высотам, откуда крик его не мог не тронуть сердец правоверных. Именно в таком муэдзине нуждалась мечеть Шарахдар. Тем более, что она отворачивалась от зла и поворачивалась к добру благодаря усилиям самого Юсефа-паши, а он не любил останавливаться в важных для него делах на полпути.
Приказать ослепить Инана было легко. Будущий муэдзин, однако, должен был обрести духовное видение по доброй воле, со смирением и благодарностью. И если он не сумеет сам оценить ниспосланную ему милость, то нужно подвести его к этому терпеливо, старательно и с искренней любовью. Но разве был на холме поводырь, который любил бы искреннее, чем Юсеф-паша? А более ревностный, глубже понимающий смысл предначертанного? Значит, именно ему придется посвятить Инана в таинства, первым услышать радостное согласие, и в тот же вечер, приказав вызвать юношу, он начал приближать его к небесному свету.
Никто не должен был знать о содержании их ночных бесед. В предшествующие дни Юсеф-паша дважды похвалил Инана перед отцом, но сейчас он молчал и избегал встреч с писарем. А дерзкие мечты Абди-эфенди все больше воспламенялись и почти растопили льдинки в его глазах, он постоянно искал повода показаться на глаза хозяину, и демонстрируя свое рвение, выжимал из неверных последние соки. Невыспавшийся и мрачный, паша ненадолго появлялся возле мечети и снова возвращался в конак, где терпеливо ждал конца долгого дня. Тяжелым неподвижным взглядом он наблюдал за тем, как за окнами сгущаются сумерки, а вяз начинает походить на сгусток крови, который, увеличиваясь в размерах, постепенно поглощает вокруг себя все предметы — конюшни и стены, а потом вбирает в свою черноту весь мир. Хлопала дверь, слышались знакомые шаги Давуда-аги, сопровождавшего Инана. И тогда Юсеф-паша неслышно следовал за ними, входил, с порога протягивая руки, чтобы крепко обнять стоявшего в центре комнаты юношу и отвести его к лавке.
Семь ночей паша подбирался к Инану. Он наступал осторожно, ослабляя при необходимости натиск, он выжидал, прислушиваясь и прикидывая, заходил с другой стороны, в очередной раз сжимая кольцо, снова и снова проверял его прочность, а потом начинал стягивать очередное кольцо, все больше приближаясь к цели. Из притихшего конака и с холма не доносилось ни звука. Ласковый и приглушенный голос Юсефа-паши иногда слегка дрожал от усталости или от страстного желания облечь в слова невыразимое; казалось, клубок слов разбухал, заполняя тесную комнатушку, слетавшие с губ Инана слова струились драгоценными нитями, переплетавшимися с нитями его наставника. В нем пробудилась и стояла настороже гордость нескольких поколений — не обманется ли он снова, самолюбие юноши заставляло его то устремляться к чему-то неясному и заманчивому, то испытывать тревогу и страх, и так — один невольно, а другой с полным сознанием дела, готовили пелену для нового рождения юноши, пока Юсеф-паша не решил, что она готова для того, чтобы завернуть в нее новорожденного. Заботливо, но твердо он объяснил ему о зрении плотском и духовном, а Инан, похоже, уже догадывался об уготованной ему судьбе, ибо лицо юноши на мгновение исказилось гримасой, сделавшей его морщинистым и постаревшим. За этой гримасой угадывалась борьба тьмы со светом, и Юсеф-паша молчаливо наблюдал за ней, собрав в кулак всю свою волю и глубочайшую любовь к Инану, дабы помочь победе света. Опыт былых сражений подсказывал ему, что ни жестом, ни словом нельзя нарушить сейчас равновесия сил, и, дождавшись, пока юноша успокоится, он дал ему на раздумье ночь, чтобы принять решение, наказав непрестанно молиться и испросить напутствие у всевышнего.