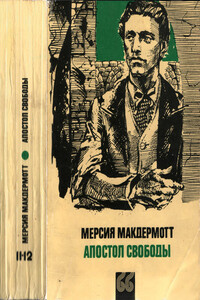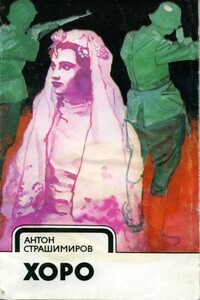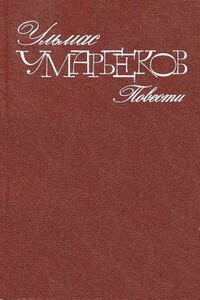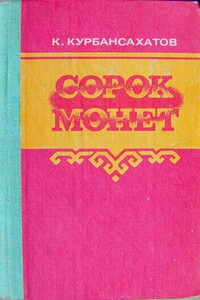Проклятая земля | страница 39
В доме Кючука Мустафы братья, стуча кулаками по столу, требовали вернуть калым, как это предусматривалось в брачном договоре в том случае, если Дилбесте умрет в первый же год или окажется негодной женой. В доме же Дилбесте никому и рта не давали открыть насчет возвращения калыма: во-первых, никто не заботился о бедняжке, как того требовал закон, да еще и безвинно выставили за дверь, а во-вторых, весь калым успели потратить — половина пошла на приданое меньшим сестрам, а другую половину растранжирила сама Дилбесте со своим бездельником. Там не только никому ничего не собирались возвращать, но и требовали, чтобы им вернули то, что еще оставалось от приданого в доме Кючука Мустафы. Ее мать, загибая пальцы, перечисляла, что именно осталось, и на кади обрушилась лавина претензий и исков вместе с толпами старух и просто дураков, доказывающих, что у Дилбесте была какая-то шубка, а ее тетя действительно подарила ей моток пряжи, и сколько зарабатывал Мустафа, и как в дни байрама он сунул в руку тестю золотую монету. Слушая весь этот вздор, судья чувствовал, как огромная игла впивается в его желчный пузырь, и проклинал себя за то, что зимой, в мороз, он ради этой чепухи должен был тащиться на другой конец холма, дабы рассудить безумцев по законам шариата. Развод затянулся настолько, что даже постоянно отирающимся у площади сплетникам надоело пережевывать одно и то же, а судью он доконал окончательно, и в один прекрасный день кади, заскрипев зубами, разогнал всех родственников до одного, а приговор его гласил: все вещи должны оставаться на своих местах, а мужу и жене отныне не разрешается ни видеться друг с другом, ни разговаривать. И хотя Дилбесте и Кючук Мустафа редко являлись к нему с претензиями, он пригрозил обоим, что прикажет заковать их в кандалы и посадить в холодную, если они еще раз появятся ему на глаза.
Тем дело и кончилось, и если раньше Мустафа только пел о своих страданиях по Дилбесте, теперь он действительно страдал от жгучей боли. Подолгу пропадая в саду, он, валяясь на только что пробившейся траве, часами наблюдал за то сходившимися, то разбегающимися в разные стороны облаками, стал редко выходить за ворота, а однажды принес новый саз и принялся тихонечко наигрывать и напевать что-то унылое и протяжное, но вскоре забросил его и занялся птичками — канарейками и щеглами. От любовной тоски и душевных терзаний он таял, как свечка; в глазах, казавшихся огромными на осунувшемся лице, появился нездоровый блеск, лоб прорезала тонкая морщинка. То ли он не мог забыть Дилбесте, то ли не давало покоя чувство вины — никому и ни в чем он так и не признался, но и привыкнуть к безделью и компании птичек не смог и однажды в мае, собрав узелок и поцеловав на прощанье руку сначала отцу, а потом и матери, отправился куда глаза глядят.