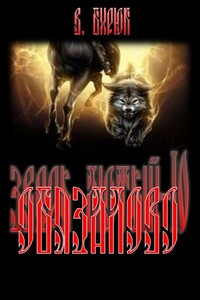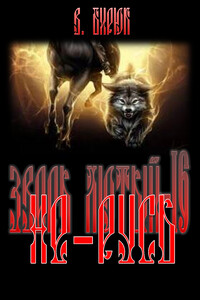Чума | страница 30
Теперь сидит-грустит.
— Что загрустил, Николаша?
— Так это… платить-то некому.
Умница. Нет, как, всё-таки, умнеют возле меня люди! Особенно — не дураки.
Господа совет опустили свои, поднятые было, седалища на сиделища и недовольно забурчали:
— Как это некому? Платить?! Мы ж не берём, а даём… И чтоб никого? Да ну… да не… не быват… на серебрушку завсегда охотники…
Зрелище, когда Салман чешет маковку… в шеломе туда перо вставляют, еловец называется… и по форме схоже…
— Башкортам серебро давать бестолку. Они возьмут. Любой род. Но дела не сделают.
Николай уныло объясняет, прерываемый смачными характеристиками потенциальных контрагентов от Салмана.
Факеншит! Набор доступных мне эпитетов из угро-тюркских диалектов… есть куда расширять. Какое это богатство — разноязычие!
Например, «Юлдуз» — красивое женское имя, означает «звезда». Но в таком контексте… с нашей грамматикой… «звездануться» в варианте встречи девственницы с еловым сучком посреди башкортских степей…
На фоне филологии с драматургией от Салмана, Николай «строит дерево исходов».
Слабый род денег возьмёт, но буляр воевать не пойдёт: страшно, побьют.
Сильный род денег возьмёт, но буляр бить… тоже не пойдёт.
Дело в особенностях патриотизма и самопожертвования в родовом обществе.
Джаред М. Даймонд, «Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ»:
«Ацтекские воины XVI в.: „Нет ничего лучше смерти на войне, ничего лучше смерти во цвете, столь драгоценной для Того, кто дает жизнь [ацтекского божества Уицилопочтли]: ибо вижу ее вдали и мое сердце стремится к ней!“.
Подобные чувства немыслимы у людей, живущих в общинах и племенах. Ни в одном из рассказов моих новогвинейских знакомых о войнах, в которых они участвовали, не содержалось и намека на племенной патриотизм, в них не фигурировало ни самоубийственных вылазок, ни каких-либо других боевых действий, предпринимаемых с осознанным риском смерти. Их набеги либо начинались с засады, либо устраивались явно превосходящими силами — возможность того, чтобы кто-то погиб за свою деревню, минимизировалась любой ценой.
Такая установка племен существенно ограничивает их военно-стратегический потенциал по сравнению с обществами государственного типа. Патриотические и религиозные фанатики являются такими грозными оппонентами не в силу самого факта своей смерти, а в силу готовности пожертвовать частью людей ради уничтожения или подавления противников-иноверцев. Воинский фанатизм того рода, о котором мы читаем в хрониках христианских и исламских завоеваний, вероятнее всего не был известен еще 6 тысяч лет назад и впервые появляется с возникновением вождеств и особенно государств».