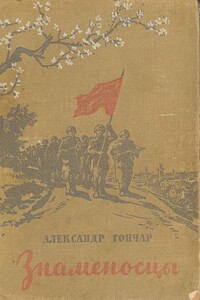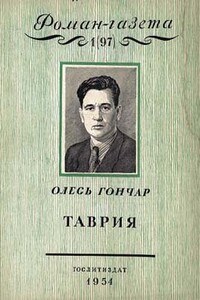Циклон | страница 38
Если другие раны, рваные, огнестрельные, можно лечить, то невольничьи не угомонишь ничем, лекарств для них нет и, наверное, никогда не будет.
Еще в школе был у нас учитель, мы его называли Колба, вероятно, потому, что голова его, лысая, лобастая, на шее тоненькой, в самом деле напоминала колбу. Он сквозь парту видел, что где у кого на коленях делается. Тоненькие чумацкие усы подковой свисали вниз и придавали чуточку грустное выражение нашему зоркоглазому Колбе, его бескровно-белому, с мелкими чертами лицу. А фигурой был складный, колбу свою держал на плечах с достоинством и сам держался прямо, петушисто, как большинство низкорослых. От него мы впервые услышали, что человек состоит из белков, жиров и углеводов (он преподавал у нас химию), услышали от него и то, что «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой», ибо по совместительству он преподавал еще и немецкий. О себе он никогда нам не рассказывал, но от других мы знали, что во время первой мировой войны был он в плену в Германии, питался брюквой, которая в наших краях даже и неизвестна, неоднократно делал попытки бежать, но его ловили и подвешивали за ноги вниз головой — чисто прусское это было наказание, ждавшее каждого за попытку к бегству. Почему-то вспоминался на Холодной Горе этот учитель, симпатичный наш Колба, над которым мы за глаза потешались, а он, привлекая нас к разным опытам лабораторным, почему-то ни разу и не рассказал, как его подвешивали и как он все-таки остался жить, выдержав все. Видимо, не только же брюквой выжил, видимо, не только она сохранила в неприкосновенности то загадочное сочетание белков, жиров и углеводов, давших в конце концов высочайшее творение природы, венец ее — человека…
Мозги наши расплавляет солнце. Открытые ему, валяемся на камнях, тонем в море какой-то другой, ирреальной жизни, что вяло течет хаотической смесью воспоминаний, миражей, галлюцинаций…
Сколько же все-таки может выдержать человек без воды, без хлеба? Черпак баланды один раз в сутки, и все. Баланда готовится с особыми немецкими приправами: вместо соли бросают в котлы испорченный, гнилой сыр, весь зачервивевший, и когда зловонное варево разливают, то сверху плавают белые отвратительные палочки. Сначала совсем не могли есть, тошнило даже тех, что совершенно отощали… Хлеб видели один раз, его несли в руках два типа, из тех, которые вроде бы только что согласились вступить в армию власовцев и за это сразу получили по стандартной буханке с полицейской нормой повидла на каждой. Они шли с этим добром в сопровождении стража через весь лагерь, протискивались между лагерным людом, между скелетами живых, у которых глаза горели единственным, казалось, желанием: хлеба! Хотя бы крошечку! Но те, что несли свой бесчестный хлеб, кажется, не рады были ему. Шли, придавленные тяжестью собственного позора, втянув головы в плечи, и не смели глянуть в глаза своим лагерным товарищам. Похоже, камнями обернулся для них этот иудин хлеб с комочком повидла — глаза прятали в землю. Наверное, этих умышленно водили по лагерю, чтобы приохотить и других, ибо на следующий день вербовщики появились снова, стояли кучкой средь тюремного плаца, ждали, не объявится ли кто. Но вербовщикам пришлось долго ждать — охотников получать предательский паек так и не оказалось! Потому что лучше уж голод и муки, чем позорная ласка вербовщиков. Молодых им нужно, которые покрепче, поздоровее. Нет, не будет. Раненые еще сильнее расцарапывали свои болячки, контуженых еще больше скрючивало, стройные фигурой мостили себе горбы под сорочками на спинах, чтобы казаться горбатыми. Увидев вербовщиков, шарахались, бросались от них, как от прокаженных. Безымянные, никуда не вписанные, бесхлебные, изможденные, костяками хребтов отворачивались от проклятых наемнических соблазнов.