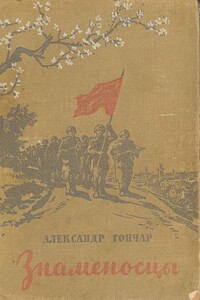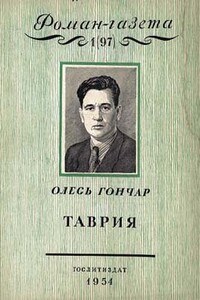Циклон | страница 23
В подвале, в каптерке, все фронтовое вновь возвращалось к ним: вернулась Решетняку его легонькая, в рыжих пятнах от крови шинель. Вернулся Колосовскому его простреленный и тщательно кем-то заштопанный бушлат. Гимнастерки сложены аккуратно, штаны сохранены. Решетняк, получая взамен госпитального халата свое фронтовое, был почти растроган, что все так заботливо сложено и все так терпеливо ждало его в подвале еще с осени, пока он там, наверху, в палате, оживал. Когда уже переоделись, Решетняк, проверяя карманы, неожиданно обнаружил в одном из них остатки фронтовые: вывернув карман, натрусил из него на ладонь какую-то сухую зеленоватую труху. Зелье какое-то. Товарищи следили, как он неторопливо все это проделывает, а он, вытряхивая, сначала и сам, кажется, не понял, что это за зелень: табак не табак… Понюхал, и вдруг так и сверкнуло в памяти: ботва от помидора! Вспомнил, узнал… Сухой потертый стебелек и листики тех плантаций яростного отступления, где помидоры для них, как жизнь, алели в росах рассвета! Никогда и не подумал бы, что помидорная труха так долго может беречь в себе дух солнца, лета, дух родной земли!
Когда поднес Колосовскому, тот, вдохнув, улыбнулся:
— Евшан-зелье, так оно называлось когда-то.
Словно бы еще сильнее сблизил их тогда этот стебелек помидорный. Случайно остался в кармане, засох, а теперь вон где повеял на них степью и зноем лета…
Грустно было покидать госпиталь. Дверь, прижатая ветром снаружи, словно прикипела, не хотела открываться. Колосовский, назначенный старшим команды, налег на дверь плечом, и сибирская вьюга ударила им в лицо обжигающим снегом.
— Ох, дюдя!
Кончилась райская жизнь! Пригибаясь, ежась, один за другим, словно парашютисты в люк, выбрасывались в ночь, на ветер, на темный огонь ночного мороза.
Шалеет вьюга. Команда изгнанников из палатного рая молча шагает по вечерним улицам сибирского города, шагает словно в какую-то иную жизнь. Валиться, падать от ветра — для тебя это было там почти буквально, как и «холод пронизывает до костей», ибо кровь не греет, ее мало — война выцеживала ее из тебя то на поле боя, то в госпитале во время операций, когда из тела вытаскивали осколки, загнанные туда вместе с фронтовым тряпьем. Зашито тело, залатана фронтовая одежда, но какая легонькая, какая воздушная эта летняя фронтовая одежка против силы пятидесятиградусного мороза! После уютного тепла палаты идешь, будто голый, ничего нет на тебе, — как на погибельное испытание, брошена слабенькая твоя жизнь в эту морозную, миллионами иголок пронизывающую купель. Ветер сбивает с ног, упорно идешь, против него, подавшись всем телом вперед, навстречу темной жгучести ночи, и слышишь, как кто-то из товарищей яростно чертыхается позади, не понимая, почему в самом деле вас выписали с вечера, неужели что то бы изменилось в мировой истории, если бы сделали это утром, дав еще одну ночь переночевать в тепле?