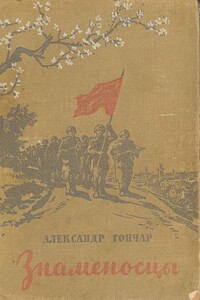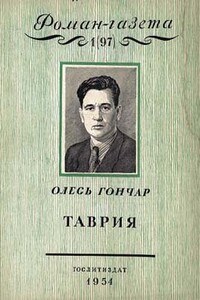Циклон | страница 22
В скирдах ночевали, с вражескими патрулями перестреливались, и еженощно небо над ними клокотало, залитое огнем, кроваво-тревожным светом пожаров. И всюду тогда, может и вправду, подкова счастья берегла их обоих.
После выхода из окружения, когда присоединились к какой-то из отступающих частей, случайно встретился капитану Чикмасову его давний друг еще по училищу, теперь батальонный комиссар. Ночью они долго разговаривали между собой, а Решетняк, укутавшись шинелью, лежал поблизости под кустом.
Было это на какой-то опушке, ущербная луна сквозь голые рукастые деревья светила, осенний ночной морозец под шинель уже подбирался. Вероятно, командиры думали, что Решетняк спит, а он слышал, когда речь зашла о нем, последнем из пограничников… Рассказывалось, как от западной границы вместе идут, какую выдержку и преданность проявил этот боец, слышно было, как в искренней задумчивости сказал своему другу капитан Чикмасов о нем, притихшем под шинелью Решетнике:
— Добрый солдат. Навеки добрый.
И это была самая дорогая награда, высшая аттестация, которую дал Решетняку, перед тем как уйти в тьму безвестности, его батарейный. На следующий день он погиб в бою, а Решетняк, раненый, окровавленный, очутился в санитарном эшелоне.
Подружились мы с ним в сибирском госпитале, в том белом, пропахшем лекарствами раю… Да, то был рай! Пусть боль, пусть муки до потери сознания, когда хирурги ковыряются в твоих ранах, промывают, закладывают свежие тампоны, но ведь не воют мины, не жужжат осколки, никто не охотится за твоей жизнью. Живешь сегодня и знаешь, что будешь жить завтра и вроде бы жить будешь вечно. Приносят книги, обеды, выдают папиросы. Сосед по палате, раненый карел, оказался некурящим, отдает тебе свой паек «Беломора»:
— Бери, Колосовский, если без этого не можешь…
Полная тумбочка «Беломоров» собралась, роскошь после фронтового махорочного голодания.
По утрам в операционной криком кричат хлопцы. Умирают почему-то чаще всего ночью. И боли ночью усиливаются. Бредовые кошмары в палате, стоны, вскрики, раздробленная рука соседа-карела так горит, что и он — на что уж терпеливый — сквозь зубы цедит, поводя в воздухе своим «аэропланом»:
— О, шорт, шорт!
Черта поминает. Если «шорт» появляется, значит, человеку совсем уже невмоготу…
И ночь за ночью до утра палата горит болью.
С Решетняком в один день мы и выписывались. Собственно, даже не днем, а под вечер, на ночь глядя; это особенно возмущало одного из выписываемых, кавалериста-фокусника, который умел проделывать разные штуки с гривенником в платочке и даже на вечере самодеятельности с этим номером выступал. Горячий конник, все допытывавшийся у комиссара, почему союзники тянут с открытием второго фронта, никак он не мог взять в толк: почему именно на ночь глядя выпроваживают из госпиталя их команду, выписывают даже недолеченных, — неужели мир опрокинулся бы, если бы до утра пробыли, последнюю ночь провели бы в тепле палаты?