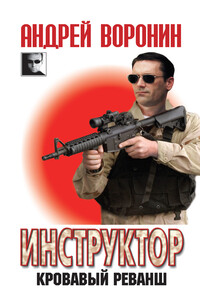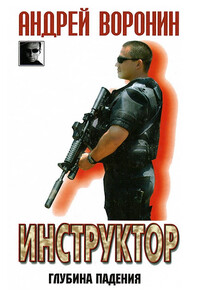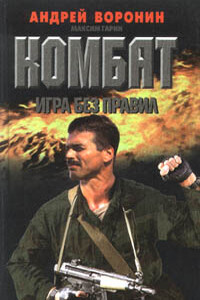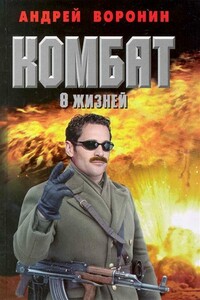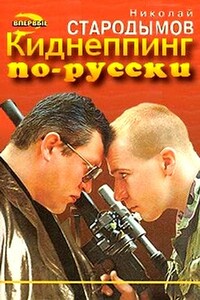Инструктор. Первый класс | страница 62
«Тогда сдохни», — хотел сказать Муха, но промолчал.
— Спасибо, Реваз, я знаю, — сказал он вместо этого и потянулся за бутылкой.
Глава 6
На лестнице старика пришлось поддерживать под руки с обеих сторон — он был совсем дряхлый и едва переставлял ноги, которых у него, с учетом массивной трости, насчитывалось целых три. От его пальто ощутимо попахивало нафталином; с этим запахом смешивался аромат дорогого одеколона, исходивший от гладко выбритых щек. Разглядывая эти морщинистые щеки вблизи, Андрей Мещеряков поневоле задался вопросом: как, интересно, этот старый гриб ухитряется их так выскабливать?
Затея Иллариона представлялась ему пустячной и к тому же заведомо обреченной на провал. Нет, рациональное зерно в ней, конечно, имелось, но можно же было, наверное, подыскать для ее воплощения в жизнь кого-нибудь помоложе! Ведь старик, того и гляди, рассыплется прямо на ходу, да и вкусовые пупырышки у него, поди, давно атрофировались, не говоря уже об обонянии… Старые заслуги хороши на юбилеях да на мемориальных досках, а в настоящем, живом деле от них, как правило, никакого проку. Но переубедить Забродова, коль скоро тот принял решение, — дело невозможное. Этого старика ему когда-то рекомендовал Марат Иванович Пигулевский — антиквар, букинист и старинный приятель, нелепо погибший от рук бандитов.
Поймав себя на раздражении, которое испытывал всякий раз, когда сталкивался со второй, решительно непонятной ему стороной натуры Иллариона Забродова, Андрей Мещеряков взял себя в руки и даже улыбнулся, втихаря посмеиваясь над собой. Да, Забродов как-то ухитрялся существовать будто в двух параллельных, нигде не пересекающихся мирах. Один из этих миров был миром ветерана спецназа Главного разведывательного управления, кадрового офицера и профессионального головореза, за свое непревзойденное мастерство прозванного Асом. Этот мир, с точки зрения генерала Мещерякова, был простым, понятным и если не милым сердцу, так хотя бы привычным, обжитым. Зато другой — мир вздорных стариков с манерами царедворцев и книг, ветхих и затхлых, как эти старики, и таких же, как они, бесполезных в наш стремительный век. Было совершенно непонятно, как Илларион ухитряется существовать в двух измерениях одновременно и какое для него главное.
На занятиях в учебном центре, в бою — словом, на службе — Забродов был собран, подтянут, абсолютно хладнокровен и стопроцентно надежен, как исправный, хорошо пристрелянный автомат Калашникова. Его часто упрекали за неуместную ироничность и недопустимое зубоскальство, граничащее с грубым нарушением субординации, но переделать так и не смогли. Иронизировать и зубоскалить он продолжал и в том, другом своем мире, но там хладнокровие ему порой изменяло. Мещеряков единственный раз в жизни видел Иллариона разозленным почти до бешенства; зрелище оказалось довольно неприглядное, и горько было сознавать, что эта буря эмоций вызвана такой пустяковой причиной, как проигрыш в споре по поводу датировки какой-то потрепанной книженции, за которую генерал Мещеряков, при всем его уважении к мировой и отечественной культуре, не дал бы и ломаного гроша. Это было несколько лет назад, и спорил Илларион как раз с Пигулевским. Оба вели себя безобразно, прямо как торговки семечками, не поделившие место на рынке, и у Мещерякова сложилось впечатление, что, будь тогда Марат Иванович помоложе или Забродов постарше, дело могло дойти до драки.