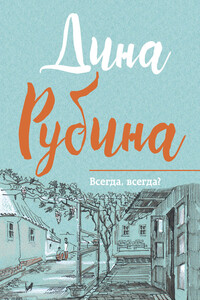Одинокий пишущий человек | страница 106
Так вот, эту волнующую сторону отношений, эту, можно сказать, интимную феерию я назвала бы:
«Подарить вам историю моего дедушки?»
Вопреки известному утверждению Малларме «Мир существует, чтобы войти в книгу» – я считаю, что мир, в котором мы проживаем свои дни и годы, существует сам по себе, а книги помещаются на неких полках в совсем другой, параллельной вселенной. Даже если какие-то персонажи повстречались вам в вашем детстве, юности, на службе в армии, в собственной лаборатории, в спортивном лагере, в тюремной камере или в соседнем гастрономе, – они перестают принадлежать обыденному миру в ту минуту, как ими завладевает воображение писателя. Как только персонажи подвергаются этому мощному реагенту, они, боюсь это вымолвить, – растворяются в нём и переходят в совершенно иные сферы обитания.
Но тут мы должны объясниться.
На протяжении моей долгой писательской дороги мне встречались самые разные попутчики: и буквальные, в поездах, самолётах, в ресторанах и забегаловках многих стран, на случайных скамейках в парках, и другие попутчики, которых я называю так потому, что на протяжении месяцев или даже лет они шли со мной от письма к письму, от страницы к странице новой книги, над которой я работала. Это самоотверженные читатели, от всей души предложившие мне «историю дедушки». Они добросердечны и наивны, и, делясь некой семейной «историей», ещё не понимают, во что вляпываются, в чьи страшные лапы передаёт их жестокосердая судьба. Их так легко спугнуть!
И потому раскручивать их детскую память надо постепенно и осторожно, приучая к ежедневному моему присутствию – в электронной почте. Есть такие, кто устаёт и отпадает, потерявшись в закоулках памяти или испугавшись того, что могут там обнаружить. Но считаные способны устоять. Способны за день ответить мне на восемь писем, не вдаваясь в размышления – зачем, собственно, мне знать, как выглядела уборная на задах огорода его деревенской бабки. Да и в этом тоже они разные, мои попутчики. Один напишет: «А что, уборная как уборная, деревянная». А другой благодарно застрочит: «Ой, спасибо, что спросили, я о ней лет сорок не вспоминал! Это была такая будка, с выпиленным сердечком. Вокруг – кусты сирени, и по весне этот дворец приобретал романтический вид, распространяя довольно противоречивый запах. А ещё дед внутри повесил колокол, именно, не колокольчик, а рынду со списанного корабля. Та висела над головой очень угрожающе, и если в уборной заседал кто-то из домашних, то, услышав шаги на тропинке, он хватал верёвку, и… по окрестным дворам плыли такие церковные гулы, такой благоговейный звон, хоть молись и крестись со спущенными штанами…»