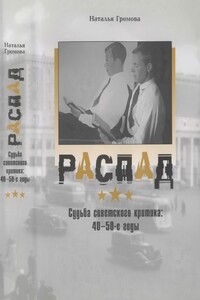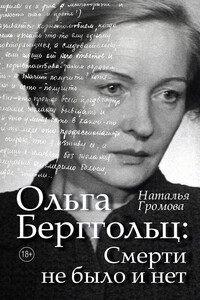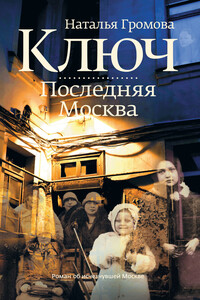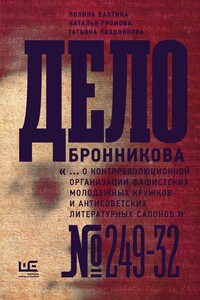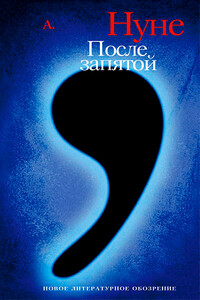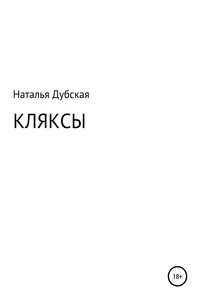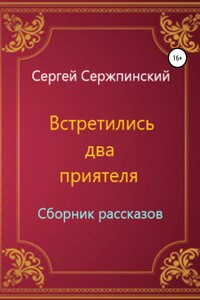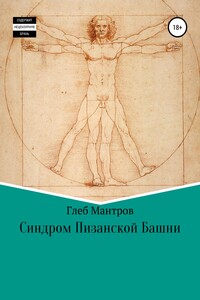Насквозь | страница 60
Я мгновенно согласилась, хотя не имела ни подходящего образования, ни даже представления, чему мне их учить. Но я готова была каждый день мыть полы, лишь бы не возвращаться туда, откуда мы бежали.
4
«Достижением» нашей Доброй школы считалось то, что в ней особенно не учили. Все должно было происходить естественно. Знание, уже заложенное в ребенка при рождении, должно вырастать из него как росток. А учитель – это лишь прекрасный садовник, который поливает все новые побеги. Правда, это все было в теории, а на практике выходило не всегда.
Учителя в нашей школе были странные. В каком-то смысле они почти не отличались от детей, с той только разницей, что что-то знали и могли о чем-то рассказать. Часто из-за двери класса доносились крики, вой и визг, словно ты проходил мимо закрытого вольера в зоопарке. Учителями здесь были профессора, ученые-математики, физики, журналисты и даже один художник – их объединяло то, что они любили своих собственных детей. Но чужие дети могли кинуть в них ботинком, рассмеяться в лицо или послать куда подальше.
Зато были театр, пение, танцы, свой литературный журнал, свободное творчество, которое в нормальной школе отсутствовало, – все это покрывало отдельные недостатки. Но ведь не бывает же хорошо все и сразу.
Директорша успокаивала.
– Притрутся, научатся. Все будет хорошо. Меня ужасно радовало ее позитивное настроение. Я тоже сначала входила в класс как в клетку со зверями, но не хищными, а домашними, такими, которые свободно прыгают по шкафам и занавескам. И вправду почти на каждом уроке открывалось окно второго этажа и в нем появлялся сын нашего хорошего учителя, юноша с тонким красивым лицом, никогда не улыбавшийся, которого почему-то все звали Полтер. Он стоял на подоконнике и ждал, что я скажу. Обычно я предлагала ему сесть или, если ему так хотелось, двигаться дальше. Он садился. Но выдерживал минут 10–15 и снова исчезал.
Главное, чему я научилась, это абсолютно ничему не удивляться. Принимать все как должное и пытаться вступить с этими детьми в контакт.
5
Я придумала предмет под названием «философия литературы» и на уроках разговаривала не столько о самих текстах, сколько о жизни как таковой. Собственно, я стала делать то, что было важно мне самой. Я входила с ними в книгу через дверь, в которую входит взрослый читающий человек. Через собственный опыт. Сначала мы говорили о тяжелых, кризисных точках – отчаянии и одиночестве, о непонимании их родителями, о мыслях о смерти, а потом уже принимались за «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых» или «Анну Каренину».