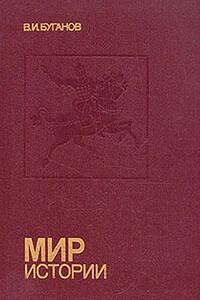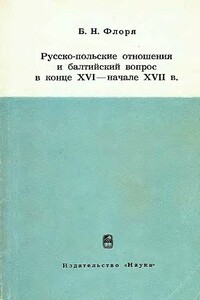Куликовская битва. Сборник статей | страница 89
Так, князья Северо-Восточной Руси, получая ярлыки на Владимирское великое княжение, как правило, становились «обладателями» и Великого Новгорода, обретали возможность либо самим направляться на берега Волхова, либо посылать туда своих наиболее влиятельных родственников (обычно старших сыновей). Источники зафиксировали такой порядок в отношении почти всех князей, занимавших владимирский стол во второй половине XIII–XIV в.[467]
То же самое можно сказать и о правителях Литовско-Русского государства, которые по мере разрастания этого государства за счет русских земель стали все чаще претендовать на право отправки на берега Волхова своих князей-наместников, т. е. на то право, которым широко пользовались в XIV в. князья Владимирского великого княжения, а в XII — начале XIII в. пользовались, как известно, представители других «великих княжений» (князья киевские, черниговские и т. д.). Присутствие князей Литовско-Русского государства в Великом Новгороде начиная с 30-х годов XIV в. становилось довольно частым явлением. В числе князей, представлявших интересы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского на Волхове, можно назвать Нариманта Гедиминовича (1333 г.), Александра Наримантовича (1338), Юрия Наримантовича (1378–1380), Патрикея Наримантовича (1383–1386), Семена Лугвеня Ольгердовича (1389–1392, 1407–1412) и др.[468]
Видимо с использованием этой традиции было связано и командирование Казимиром на берега Волхова в 1470 г. киевского князя Михаила Олельковича, так как и сам факт тесного сотрудничества этого князя с домом Борецких (сотрудничества не на «униатской», а на православной основе)[469].
Не приходится сомневаться в том, что ярлыки на русские земли, выдававшиеся крымскими ханами правителям Литовско-Русского государства в начале XVI в. (но восходившие по всем данным к ярлыкам более раннего времени, во всяком случае к эпохе Тохтамыша и Хаджи-Гирея), хорошо учитывали эту устойчивую традицию политической жизни русской земли. Так, перечисляя конкретные центры русских земель, «передаваемых» правителям Великого княжества Литовского, ханские ярлыки в этом перечне постоянно называли Великий Новгород и Псков[470]. То, что упоминание в ярлыках Новгорода и Пскова фиксировало существование вышеуказанной традиции и отнюдь не являлось какой-то случайной оговоркой, подтверждается присутствием данной формулы во всех сохранившихся копиях этих документов. Об этом же, по существу, говорило и наличие близких формул в некоторых летописных рассказах по поводу передачи ордынскими ханами «прав» на русские земли тем или иным правителем восточноевропейских государств. Весьма характерным в этом смысле оказывается присутствующий во многих летописях рассказ о переговорах Тохтамыша с Витовтом накануне битвы на Ворскле (1399 г.), рассказ о достигнутом между ними соглашении по территориальным вопросам, соглашении, в котором специально оговаривалась дальнейшая судьба Великого Новгорода и Пскова как обязательного «придатка» одного из «великих княжений», как составной части будущего обширного государства Витовта в Восточной Европе