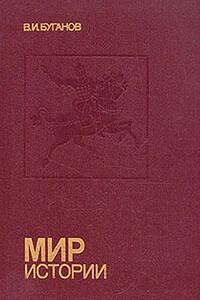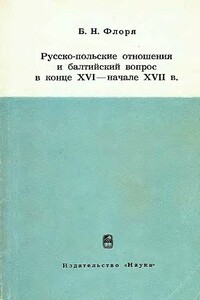Куликовская битва. Сборник статей | страница 78
Фиксируя проблемную взаимосвязь всех этих памятников, отмечая их почти одновременное появление вскоре после Куликовской битвы, названные авторы, естественно, видели в них отражение реальной исторической действительности (пусть осложненной некоторой тенденциозностью), усматривали в них наличие такой информации, которую нельзя было не считать в основном исторически достоверной (хотя бы потому, что в это время было еще много живых свидетелей событий 1380 г. и даже непосредственных участников сражения на Куликовом поле).
Наряду с такими взглядами на проблему исторической достоверности памятников куликовской поры в советской историографии существуют и другие точки зрения по данному поводу. Так, М. А. Салмина отстаивает тезис о том, что основные памятники Куликовского цикла, возникшие, по ее мнению, в середине или второй половине XV в., представляют собой публицистический вымысел, очень далекий от реальной действительности. Утверждая, что все памятники Куликовского цикла берут свое начало из краткой летописной статьи Троицкой летописи, Салмина в то же время настаивает на том, что эта летописная статья не имела прямого отношения к Куликовской битве, а представляла собой лишь кальку летописного рассказа о битве на Воже 1378 г.[448] При таком отношении к исторической достоверности всех памятников Куликовского цикла работы Салминой, по существу, сужают фактологическую основу этого события и обедняют представление об этой эпохе в целом[449].
Исследование Салминой явилось, таким образом, свое^ образной попыткой отдалить возникновение памятников Куликовского цикла от самой Куликовской битвы, сделать комплекс памятников тем самым менее «историчным», а потому и менее достоверным; однако, несмотря на эти сравнительно скромные цели, исследование Салминой «неожиданно» послужило толчком, с одной стороны, для ревизии некоторыми историками шахматовской концепции развития русского летописания XIV–XV вв. в смысле искусственного удревнения этапа «расщепления» общерусского летописания на «великорусское» и «белорусское»[450], с другой стороны, для существенной «корректировки» наших представлений о всем восточноевропейском историческом процессе XIV–XV вв., для искусственного удревнения процесса формирования Великороссии, для обоснования тезиса о полном утверждении ее «бытия» в XIV в.[451], а следовательно, и для синхронного удревнения полного обособления Украины и Белоруссии.
Указанные тенденции в трудах некоторых наших историков выдвигают перед исследователями политической и культурно-идеологической жизни русских земель конца XIV в. целый ряд особых задач.