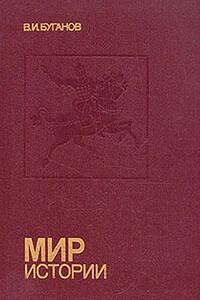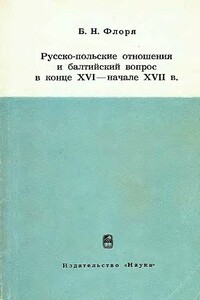Куликовская битва. Сборник статей | страница 60
Все требования к тверскому князю основывались на презумпции московской стороны, что великое княжение — «наша отчина», и, судя по тому, что такая терминология употреблена в тексте официального дипломатического акта, литовская сторона признавала (или вынуждена была признавать) это право московского князя.
Весьма интересна заключительная фраза грамоты, по сути дела приписка к договору: «А со Ржевы до неправы не сослати». Кто кому должен был уступать Ржеву? Следует напомнить, что по крайней мере во второй половине 1370 г. Ржева была в руках Дмитрия Ивановича. В 1376 г. Ржева уже литовская[363]. Следовательно, переход Ржевы под власть Ольгерда совершился между 1371 и 1376 гг. Как раз на этот хронологический промежуток и приходится московско-литовское соглашение со статьей о Ржеве. Становится очевидным, что речь в перемирной грамоте идет о московских наместниках, которые еще сидели в самой Ржеве и ее волостях и должны были уйти, когда произойдет «неправа», т. е. будут выполнены какие-то условия для заключения уже длительного мира[364]. Поскольку в тексте грамоты о Ржеве ничего не говорится, о ней упоминается только в приписке, делается также ясным, что Ржева была объектом внимания другого, более раннего московско-литовского докончания. Скорее всего, речь должна идти не о перемирии конца 1370 г., а о мирном договоре 1371 г., по которому Ржева возвращалась Ольгерду, а тот скреплял мирные отношения выдачей замуж своей дочери за князя Владимира. Как известно, их брак состоялся, а с передачей Ржевы Литве московское правительство не спешило.
Согласно летописи, вернувшись из-под Любутска в Москву, Дмитрий отправил посольство в Орду. Возможно, именно это посольство и имелось в виду в перемирной грамоте. Во всяком случае, если эта грамота и была составлена в связи с «любутским стоянием», то совсем необязательно, что она и оформлена была под Любутском. Это могло произойти и в Москве. Но где бы ни была написана грамота, если верно заключение о тождестве посольств в Орду, о которых говорят докончание и летопись, то введение в договор оговорки относительно будущих результатов переговоров людей Дмитрия Московского в Орде («то от нас не вызмѣну») весьма симптоматично. Дело в том, что, по сообщению летописи, Дмитрий направил к Мамаю своих киличеев «со многымъ сребромъ» с целью добиться выдачи за деньги Москве находившегося с лета 1371 г. в Орде старшего сына Михаила Тверского Ивана