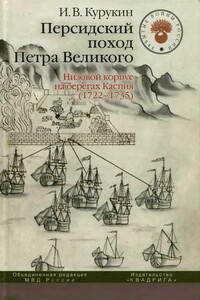Россия и Ливония в конце XV века: Истоки конфликта | страница 22
На первый взгляд может показаться, что российские историки конца XIX — начала XX в. уступили это поле без боя. Самые интересные российские исследования по этой теме были посвящены XIII в., отмеченному монументальной фигурой Александра Невского[60]. В 1884 г. в Риге вышла в свет трехтомная «История Ливонии» Е. Чешихина. Написанная на основе большого количества русских и ливонских источников, эта книга давала пищу для размышления, однако ее хронологические рамки также ограничивались эпохой Завоевания[61]. У Чешихина было намерение перевести и опубликовать важнейшие источники по истории Прибалтийского края вплоть до XVI в., но этому проекту не суждено было осуществиться. Так или иначе, но труд Форстена, где говорилось о начальном этапе «битвы за Балтику», оставался, в сущности, единственным фундаментальным российским исследованием по теме русско-ливонских отношений начала Нового времени, но он был лишен ярко выраженного полемического задора и по степени воздействия на обывательское сознание не мог сравниться с упомянутым выше эссе Суворина.
Реакция российских историков на националистические настроения в прибалтийских губерниях оказалась довольно своеобразной. Реформы 60–70-х гг. XIX в. создали условия для бурного капиталистического развития, благодаря которому Россия стала быстрыми темпами наращивать свой экономический потенциал. У российских историков стала востребована необходимость синхронизировать историческое развитие Российского государства и стран Западной Европы. Наиболее четко это воплотилось в трудах выдающегося российского историка С. М. Соловьева, благодаря которому в отечественной историографии укоренилось представление об экономических мотивах, заставлявших великих московских князей обращать свои взоры к Балтийскому морю, и о насущной потребности обретения Россией XVI в. морского побережья[62]. В связи с этим возникло представление о препятствовании ганзейских городов Ливонии проникновению русского капитала на европейские рынки[63].
Между тем ситуация в Латвии и Эстонии существенным образом изменилась. После революционных потрясений 1917 г. и распада Российской империи на их территории в 1918 г. возникли суверенные республики, которым было суждено на протяжении двух десятков лет стать передним рубежом борьбы европейских стран с Советской Россией. Не случайно поэтому в 20-х гг. XX в. тема истоков русско-ливонского конфликта вновь оказалась на пике популярности. К тому времени большинство источников было опубликовано и стало доступным широкому кругу исследователей. Это позволило прибалтийским историкам создавать интересные труды, к числу которых относится и цикл работ К. Штерна, посвященных проблемам русско-ливонской границы, что в связи с демаркацией российско-эстонской границы (1920) было очень актуально. Работы Штерна содержат интересный материал по топографии и топонимике приграничных районов, а также наблюдения, касающиеся природы русско-ливонских пограничных конфликтов и их связи с крестьянской колонизацией