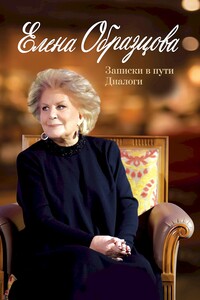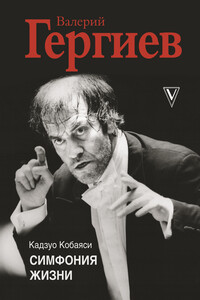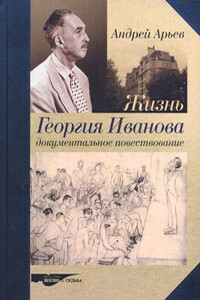Портрет поздней империи. Андрей Битов | страница 25
Уже в «Ахиллесе и Черепахе» (приложение к «Пушкинскому дому», 1971) Битов писал о проблеме «смерти персонажа» и «смерти автора», о литературе, «компенсирующей» нищету и развал жизни. О подспудно намеченной центральной коллизии всей философии Битова: проблеме независимости человека и одновременно — его сотворенности. Говоря еще более отвлеченным языком — о проблеме свободы и Бога.
Еще на заре советской юности Битов всей душой, «самостийно» догадался: чем ближе к «концу» — тем ближе к «началу». Как никакой другой современный ему писатель, Битов знал: на один вопрос всегда есть два ответа. Это положение движет вперед все его сюжеты. Их загадочность состоит в том, что вопросы в прозе Битова забываются, ответы же — остаются. Вся она — ответ на уничтоженные судьбой вопросы. На то, почему он не стал геологом, не стал поэтом, не стал спортсменом, авантюристом, альпинистом и т. д. Даже когда эти ответы сами имеют вопросительную форму, она перекрывается восклицательной интонацией. Поэтому Битов и заключает «Предположение жить» главкой «Поведение как текст» — о Пушкине, имевшем высшую честь «пробиться в словарь». «Пушкин, Гоголь, Чехов — это уже слова, — замечает Битов, — а не только имена».
В советском XX веке путь от имени к слову проходил сквозь таможню. В 1978 году «набоковский» «Ардис» печатает «Пушкинский дом», после чего имя Битова вычеркивается из планов отечественных издательств. В ответ он немедля предстает автором («Последний медведь», «Глухая улица», «Похороны доктора») и составителем (с Василием Аксеновым, Виктором Ерофеевым, Фазилем Искандером и Евгением Поповым) московского литературного альманаха «Метро́поль», бывшего, по словам Ерофеева, «попыткой борьбы с застоем в условиях застоя». В СССР альманах не напечатали, зато он — вслед роману — незамедлительно вышел в США на русском и тут же на английском и на французском.
На родине Битова отлучили от печатного станка до 1985 года. Что опять же «компенсировалось» изданиями в Европе и США. И тут «свезло».
Валерий Попов говорит, что это не судьба, а мощная стратегия. Если так, то кутузовского, чуткого к расположению звезд типа. С перманентной сдачей Москвы.
В потаенные годы Битов работает над повестью «Человек в пейзаже» (1983), ставшей второй частью «Оглашенных». Название влечет за собой истолкование в духе Анджея Вайды: «Человек в пейзаже после битвы». Битвы цивилизации и природы. Чтобы взглянуть на содеянное, нужна точка отсчета — и не только философская (культурологи занимались этим и до Битова и без Битова), но осязаемая. Битов описывает ее с кинематографической выразительностью. Идеальное место в его повести найдено и занято — художником. Ответ дан. Видно ему отсюда далеко, «во все концы света». Но не видно, кем он сюда поставлен. Зато ясно, зачем и почему: осознать трагичность своего положения. Чем оно идеальнее, тем безнадежнее: выразить, «что есть Истина», очутившись перед Ее лицом, в средостении мира, художник не в состоянии. Вопросы он может задавать, исходя из данности, из готовых ответов. Из главного, заключенного в феномене смерти: