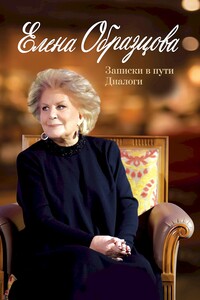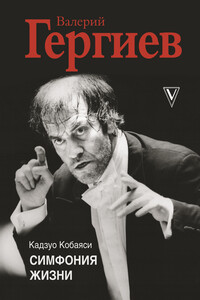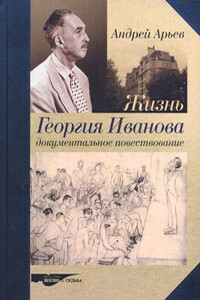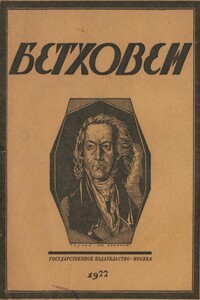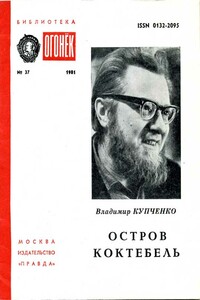Портрет поздней империи. Андрей Битов | страница 19
И никаких Акакиев Акакиевичей, никаких потерявших лицо «существователей»! Подобно пушкинским Евгениям из «Онегина» и «Медного всадника», подобно Евгению Мандельштама, тому, что «бензин вдыхает и судьбу клянет», герои Битова «где-то служат», если служат вообще. Не больше того.
Открытие Битова состояло в том, что он придал пушкинско-мандельштамовскому «самолюбивому пешеходу» экзистенциальный, а не социальный, статус.
Сквозь гвалт «достижений и побед» умышленной коммунистической стройки герой Битова возвращается к ощущению реального бытия — пусть и в его советских сумерках.
Битов, Рид Грачев, Генрих Шеф вернули отечественной прозе придушенного в советские годы, приравненного к «обывателю» и «мещанину» «маленького человека» — в его петербургском изводе — как магистрального литературного героя. Не из «Шинели» они вышли, нет. Много более внятны им «Записки из подполья». Вместо знаменитого «гуманного места» гоголевской повести, контрапунктом их сюжетов становится декларация «антигероя» Достоевского. «Страдание — да ведь это единственная причина сознания», — транслирует сугубо авторскую мысль «антигерой» этой повести.
Изменила ли молодая ленинградская проза начала 1960-х что-нибудь в русской словесности, «в ее строении и составе», говоря словами Мандельштама?
Если литература почитается совестью общества, то писателю следует быть максимально совестливым по отношению к своему герою. Недоступная цель искусства осознается Битовым так: «…совершенно совпасть с настоящим временем героя, чтобы исчезло докучное и неудавшееся, с в о е». В «Пушкинском доме» даже мелькнул проект «Общества охраны литературных героев»… Тем паче что за них-то преимущественно авторам и достается. Как было и с ударным достижением раннего Битова в области новеллистики, с рассказом «Пенелопа» — вариацией той же психологической коллизии, что отражена в рассказе «Жены нет дома», в повестях «Сад» и «Жизнь в ветреную погоду».
По занятой героем «Пенелопы» позиции его нетрудно отождествить с интеллигентом. Хотя бы уже потому, что он ни к кому не примыкает, наоборот, уклоняется от недреманной помощи коллектива, всячески лелеет свою независимость. Как и другим персонажам Битова, ему свойственна насмешливая корректность самоидентификации. Со своими эмоциями он справляется — или не справляется — сам. Т. Ю. Хмельницкая — остроумно, но по касательной — заподозрила молодого писателя лично «в изощренном любовании своей томительной грешностью». Она же, добравшись до «запасников души» автора «Пенелопы», в письме к Ирене Подольской резюмировала: «Меня поразило, что в его анализе человека нет демаркационной линии между помыслом и поступком и все, что живет в сознании и даже подсознании, автором как бы реализуется».