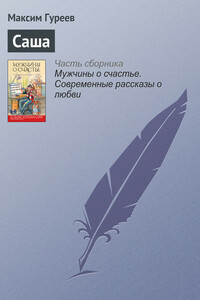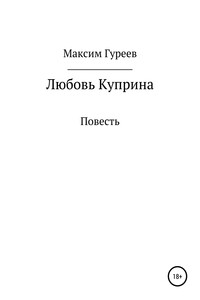Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 136
Если все это, тем не менее, звучит как элегия, то виной тому скорее жанр отрывка, нежели его содержание, каковому больше приличествовала бы ярость. Ни та, ни другая, конечно, не способны раскрыть смысл прошлого; но элегия хотя бы не создает новой реальности. Какой бы хитрый механизм ни строил ты для поимки собственного хвоста, ты останешься с сетью, полной рыбы, но без воды. Которая качает твою лодку. И вызывает головокружение – или заставляет прибегнуть к элегическому тону. Или отпустить рыбу обратно».
И тут же вспомнил, как вместе с отцом ходили в Зоологический музей на Университетской набережной. Здесь в полутемном зале, окна которого были задрапированы темно-синего цвета велюровым занавесом (видимо, это должно было создать ощущение глубины), в специальных деревянных ящиках содержались мумии рыб-уродцев, переданные сюда из Кунсткамеры.
Двухголовые рыбы.
Рыбы без плавников.
Рыбы с перепончатыми лапами.
Рыбы без глаз.
Рыбы похожие на собак.
Иосиф с интересом рассматривал эти диковинные экспонаты, которые в свою очередь пялились своими выпученными от напряжения глазами в притемненную велюровую глубину зала, и думал о том, что «мерзнут холодные глаза рыбы», что «рыбы всегда молчаливы».
Отец же, напротив, не любил этот зал и хотел пройти его как можно быстрее, потому что не понимал, какой интерес рассматривать этих уродцев, от которых нет никакой пользы – к промыслу негодны, в пищу употребить нельзя, а об эстетической стороне так и вообще говорить не приходилось.
Потом после посещения музея Иосиф и Александр Иванович медленно брели по набережной в сторону моста лейтенанта Шмидта. Отец вспоминал, как, работая в многотиражке Балтийского морского пароходства, снимал ловлю салаки и балтийского осетра, и чуть не утопил тогда только что купленный за большие деньги фотоаппарат. – То-то бы мама рассердилась, – смеялся.
Сын слушал отца и тоже улыбался.
Потом, конечно, обсуждали прочитанное за последнее время.
Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»: «Если мы делали этический выбор, то исходя не столько из окружающей действительности, сколько из моральных критериев, почерпнутых в художественной литературе. Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанного. Книги, возможно благодаря их свойству формальной завершенности, приобретали над нами абсолютную власть. Диккенс был реальней Сталина и Берии. Романы больше всего остального влияли на наше поведение и разговоры, а разговоры наши на девять десятых были разговорами о романах. Это превращалось в порочный круг, но мы не стремились из него вырваться.