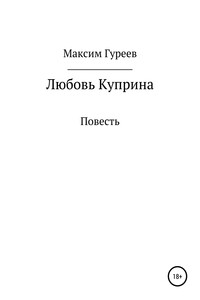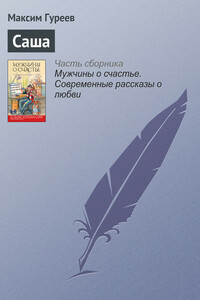Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 123
В этом смысле весьма показательно, что именно Баратынский привлек внимание Иосифа Александровича. Он был ближе ему своей отстраненной маргинальностью, бесстрастностью, отрешенностью, нарочитой архаичностью, нахождением вне поэтического мейнстрима.
Мы пьем в любви отраву сладкую;
Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви, огонь живительный, —
Все говорят, – но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им!
Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов златых цветущей младости
Тебе открыл бы душу вновь.
Странное, изломанное, загадочное мировосприятие, не претендующее на всеведение, не могло не импонировать Бродскому, который в интервью, данном Соломону Волкову в Нью-Йорке, скажет: «Принято думать, что в Пушкине есть все. И на протяжении семидесяти лет, последовавших за дуэлью, так оно почти и было. После чего наступил XX век… Но в Пушкине многого нет не только из-за смены эпох, истории. В Пушкине многого нет по причине темперамента и пола: женщины всегда значительно беспощадней в своих нравственных требованиях… Дело в том, что женщины более чутки к этическим нарушениям, к психической и интеллектуальной безнравственности… Цветаева действительно самый искренний русский поэт, но искренность эта, прежде всего, есть искренность звука – как когда кричат от боли. Боль – биографична, крик – внеличен… жизненный опыт ничего не подтверждает… Можно даже предположить, что были люди с опытом более тяжким, нежели цветаевский. Но не было людей с таким владением – с такой подчиненностью материалу. Опыт, жизнь, тело, биография – они в лучшем случае абсорбируют отдачу… параллелей своему житейскому опыту я в стихах Цветаевой не ищу. И не испытываю ничего сверх абсолютного остолбенения перед ее поэтической силой».
Подобный неожиданный поворот в рассуждениях был частью парадоксального мироощущения поэта, для которого, в частности, гомосексуальность и гетеросексульность являлись понятиями не столько медицинскими (биологическими), сколько духовно-мистическими. Что в свою очередь восходило к античной традиции, которая, как известно, вдохновляла Бродского, давала ему изрядную лингвистическую пищу для поиска новых поэтических форм.
По сути это была попытка двигаться от праязыка как носителя изначальных эпических смыслов, языка любви, смерти, предательства и благородства, языка «Одиссеи», «Илиады», «Энеиды».