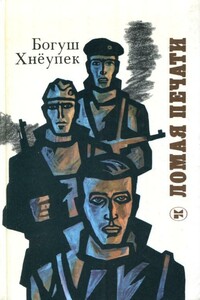Дорога в мужество | страница 83
— Сом-кнись! Ряды — вздвой! Прре-кратить разговоры!..
Сутулился Чуркин на левом фланге, месил грязищу вместе с молодыми и с тревогой ждал вечера — сумрачного, неприютного. Если звали на беседу — шел охотно: время там летит незаметно, да и польза есть. На комсомольское собрание являлся без приглашения, усаживался в укромном уголке, где порою и козью ножку удавалось выкурить под шумок. Комсомольцы сперва поглядывали на него недоуменно, а потом привыкли, и если он невзначай поднимал руку — засчитывали.
Когда же, как вот сейчас, отсиживался в землянке, тоска сжимала сердце, и некуда было деться от нее, хоть волком вой.
…Бондаревич и Кравцов читали, один за столом, другой у печки, Лешка-грек и Суржиков валялись на нарах. Женя, рукодельничая в «светелке», незаметно поглядывала на Бондаревича, а Чуркин из своего угла — на нее. Он думал, что эти двое — Женя и Бондаревич — любят друг друга, только открыться почему-то не могут.
На третьем орудии отчитывал кого-то Тюрин. Потом часто застучали каблуки наверху. Влетели и сразу к Жене в «светелку» Танечка-санинструктор с новой дальномерщицей Людочкой Строковой, пошушукались, посмеялись, вышли втроем нарумяненные, красивые:
— Костенька, золотце, сыграй! Не манерничай, девушки просят…
Танечка потащила от стола Бондаревича, Людочка пошла в паре с Кравцовым, Женя подхватила упиравшегося Лешку-грека.
Кружились пары в вальсе, а Чуркин грустил. «Вот ведь что значит — молодые, лихом не подрезанные… Тут кручина до донышка душу выскребла, а им ни горя, ни беды. И не за что их судить, сам не такой ли был? Похлеще, поди! Огонь-парень был, да погасло все, до последней искорки… И не в том, наверно, главная печаль, что твое обвяло, облетело, как яблоневый цвет, — никого это не минует, — а в том, что неумируща человеческая память и всегда, проклятая, тиранит душу не спросись…»
Шутят хлопцы, смеются девчата. Одна Людочка горюет, Сережке жалуется: куда ни писала, о сестренке ни слуху ни духу. Тоже беда не малая, и все же у девчушки хоть надежда есть. А тут — ничего, кроме памяти, терзающей и хорошим, и плохим.
«Эх, Костька, Костька — забубенная головушка, играй пошибче, повеселее, пусть невесты душу отведут, а я под вальсы твои еще разок болью своей отболею. Было ведь и у меня счастье, было…»
Кружатся пары в вальсе, шутят, смеются, но все это теперь уже далеко: зеленое половодье степи у Чуркина перед глазами, стадо коров по брюхо в траве да пастух при стаде. Стоит парень у подножия кургана, при самой дороге, — на одном загорелом плече витой из сыромятины кнут, на другом — парусиновая сумка. В сумке той ржаная краюха, две луковицы да сатиновая рубаха-косоворотка, не новая, но еще целая, одна-единственная на праздник и в будни. Рубаху эту парень надевает только на люди, здесь, в степи, и так сойдет. Стоит парень, глядит из-под ладони на сиреневую дымку горизонта, и — черт ли в том, что у него одна рубаха! — дух захватывает от восторга: там, за сиреневой дымкой, вот уже три дня подряд деется диво дивное, ходят железные коробки на колесах, эти самые… трактора, за ними — плуги, и рвут целину те плуги на части, ворочают с корнем. Были вчера за теми буграми ребята деревенские, прибежали — отдышаться не могли, столько чудес наговорили, что сразу всего и не понять.