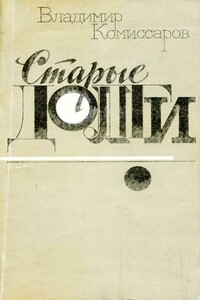Живой обелиск | страница 45
— На слово, говорите, дядя Леуан? — Хадо щелкнул ногтем указательного пальца по объективу. — Вы думаете, собаки только у вас? У меня их здесь не три, а четыре, да еще косуля, спасающаяся от убийцы. Ха-ха-ха!
Леуана словно ударили обухом. Он как-то сразу осунулся, отвисла выдающаяся челюсть. На лбу и посиневшем кончике носа выступил пот.
— Хадо! Мы с твоим покойным отцом Кимыцом жили как братья! Я тебя как родного…
— Отпустите собак, дядя Леуан, не дразните их! — прервал Хадо.
Собаки бросились по следу давно ушедшей косули, и хозяин последовал за ними с ружьем наперевес. Хадо смотрел на согнувшуюся спину Леуана и молчал. Не знаю, что в ту минуту думал этот странный человек.
— Ты на самом деле снимал их? — заикнулся я.
— Снимал, Миха… только косулю, потому что не люблю снимать плевки, — сказал он устало и присел.
Он забыл о вершине Иально, о великом зареве, стоящем в утренние часы между небом и землей. Он прислонился спиной к каменной глыбе и чистил платком объектив фоторужья.
— Не слишком ли строго ты обошелся с ним?
Рука Хадо застыла на объективе. На меня уставились полные ужаса глаза мальчишки, рыдающего над пустой могилой дяди Гарси: «Заур, Миха!.. Этот негодяй Гитлер разбил жизнь бабушке Кудухон!»
— Мой отец вернулся с фронта с размозженным левым плечом и часто жаловался, что каждый раз, когда смотрит военные фильмы, у него ноет рана… Миха, у меня сейчас болит вот тут, — очертил он левый сосок указательным пальцем.
— И Леуану приходится расплачиваться. Отказаться от родного сына все равно что отсечь себе руку.
— Он не отсек себе руку! — Хадо исступленно замотал головой. — Но скажи, Миха: если он и отсек, то что от этого дедушке Бибо, Асинет, мне?..
— Заур сказал, что…
— Заур верит во все доброе. Заур верит и в то, что Хамыца, удирающего на «Волге», Хадо догнал на самосвале, но это не так.
— В жизни к человеку хоть один раз да приходит потребность искупить грехи.
— Поверь мне, Миха: нет такого чистилища, где бы могла очиститься душа Леуана!
— А заявление, поданное Леуаном об осуждении Хамыца?
— Это маневр, Миха.
— Маневр, говоришь? Неужели человек может так опуститься? О каком крике в лакированном гробу ты намекал Леуану?
Хадо заморгал рыжими ресницами.
— Испорчен день, Миха, и сорван поход на вершину Иально… Посвяти этот испорченный день мне… и Таймуразу!
Он поднял кожаный мешочек с провизией и аракой, перекинул через плечо фоторужье и пошел по долине против течения реки. В редком кустарнике азалии и граба пасся скот, поблизости куковала кукушка. Хадо осторожно перегнул кустик граба, вырвал из-под него гвоздику и сказал так, будто обращался не ко мне, а к земле: