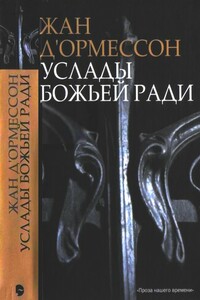Остановка в пути | страница 48
Сердечная тоска и сердечные муки, о них говорят, кривя губы, но они все-таки существуют, и как может быть иначе, если душа твоя — еще раз скривим губы, — если душа твоя истекает кровью.
Тоска по дому точно такое же чувство, и это не удивительно, в нее тоже замешаны любовь и утрата. В тоске по дому, как и в любовных муках, заключена двойственность: наслаждение примешано к боли; и жестокое несчастье, которое тебя постигло, делает тебя неповторимым; исключено, чтобы кто-то еще так страдал, и оттого исключено, чтобы кто-то еще был таким, как ты.
Я точно помню, каким значительным казался себе, когда меня впервые охватила великая тоска по дому и когда я придумал ей наименование. Дело было неподалеку от Эккернфёрде, на берегу Кильской бухты. В мире не найти такой загаженной воды, как в этом уголке Балтийского моря. Такой холодной и такой соленой. И в эту-то кошмарную жижу они гоняли нас каждое утро в шесть, тотчас после другого кошмара, который они называли «бег по лесистой местности». В эти помои мы должны были нырять, а кто хотел стать истинным германцем и мужчиной, чистил ими зубы, без зубного порошка, ибо с порошком — это же недостойно истинного германца и мужчины. Кофе к завтраку нам варили не иначе как из тех же самых ополосков, а день наш был заполнен скверным мармеладом, мировоззрением и физической закалкой.
Ни мужества, ни истинно германских черт я там не приобрел; наоборот, я даже подумывал, не сбежать ли мне, не дезертировать ли; а другой мальчонка не только подумывал, он и вправду сбежал. Пешком хотел добраться от Эккернфёрде до Хузума, где был его дом. Хотел домой, к матери, ему же еще не было одиннадцати лет, и он не понимал, что благодаря мармеладу и физической закалке человек все более и более приближается к идеалу истинного германца. Может, он и не хотел к нему приближаться, ведь он дал тягу; но наши фюреры сели на свои мотоциклы и отправились его искать.
И нашли его. И привели назад. Они шеренгой въехали в лагерь, пять молодцов на тяжелых мотоциклах «цундапп», а перед шеренгой едва брел, спотыкаясь, мальчишка; он понимал, а я и тогда, и сегодня понимаю: они бы его задавили, упади он на землю, они бы задавили его на наших глазах. Они же на наших глазах и для наших глаз вот что сделали: взвалили мальчонке на спину — ему всего десять было, как и нам всем, — ранец, насыпав туда сырого песку с пляжа, а лямки заменили обрывками телефонного провода и приказали мальчишке, который был не старше меня, шагать за забором вокруг лагеря и петь при этом: