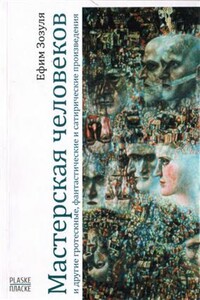Закон Бернулли | страница 64
Но надежда еще не покинула его, и он ничем не выдал увиденного. Поэтому все, кроме Низарова, восприняли как должное, когда он взял Костино сердце в руки и стал его массажировать, осторожно сжимая в ладони, — но это было последнее средство, на которое можно рассчитывать и которое его не раз выручало. И тут он ощутил почти неодолимое желание снять со своих рук эту эластичную прозрачную пленку, эти мешающие и ставшие ненужными перчатки, потому как начинал понимать: все что, сейчас он делает, наверняка делает зря. Но он не снял перчаток и не перестал массажировать сердце, и эта минута действительно показалась ему вечностью, и стоявшие вполкруга за его спиной и по бокам люди видели, как устало он откинулся назад, потом откинулся всем корпусом и глядя перед собой отсутствующе.
Ему почудились слабые обрывки музыки — не то из автомобильного приемника, не то из настраиваемого транзистора — сквозь неясные шорохи и треск радиопомех. Чертовщина, галлюцинации странно слышать — он хорошо знал, что в операционной музыке взяться неоткуда. Это в предоперационной, если присесть на кушетку, можно слышать все, что угодно, все, что делается в смежной ординаторской, сквозь стену там переговаривались без селектора, хотя аппараты, новенькие совершенно, красовались по его личному повелению и в ординаторской, и в предоперационной.
Но за несколько кварталов от клиники, в зрительном зале, где по обыкновению и при открытой сцене не гасят люстр, действительно в этот миг плескались прозрачные хрусталинки музыки, но он не мог слышать пианиста, а только представил его и застывших в сосредоточенном молчании людей — чудачество!
А тот тип с японской камерой тоже, наверное, в первом ряду?
У пианиста своя манера исполнения, своя трактовка. В Моцарта он закладывает элементы современнейшей музыки, но от этого Моцарт не перестает быть Моцартом, однако на слух это педантов ошарашивает — тех, которые в концертный зал приходят с партитурой, чтобы сверять.
Он вдруг нашел, что музыка вызывает иногда профессиональные ассоциации, и что Кости у ж е н е т, и что прав был тот военный летчик, которого он оперировал перед самым концом войны — запомнился он и запомнилась его фамилия, она была странной — Гредов, — но сам военный был очень хорошим человеком и с ним наедине говорил о том, что в жизни этой самое главное ж и т ь, жить и чувствовать себя обязанным людям, — не часто об этом говорят вслух, а если и говорят эти слова, то знают, что только напоследок говорятся они не зря. Но Гредов выжил, хотя потом и не случалось так, чтобы увидеться им снова.