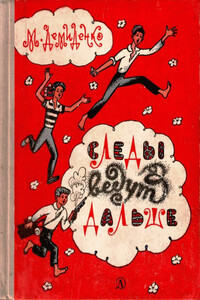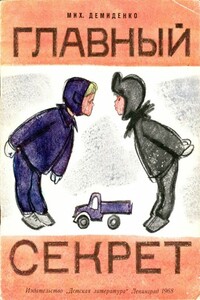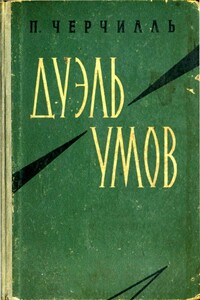Абрикосовая косточка / Назову тебя Юркой! | страница 31
— Нерон, Катон и Стенька Разин, — добавляет Абрам Михайлович и забирается под одеяло.
— Зачем ему экзамены? — разъяряется Яшка. — Он свой экзамен на человека сдал! На пять с плюсом! Разве сравнить его с каким-нибудь сосунком-десятиклассником? Взять хотя бы твоего Гришку. Что он в жизни видал? Сидит за отцовской спиной. Учись только! Батька накормит, напоит. Не имеют права с инвалида экзамены требовать! Я бы их…
— Разошёлся, — раздаётся голос Абрама Михайловича из-под одеяла. — Государство и без вас решило: есть положение, чтоб инвалидов принимали без экзаменов. Вы лучше подумайте, как он будет лекции конспектировать.
— Я уже придумал, — говорит Женька и поворачивается в сторону голоса. — На лекциях буду слушать преподавателя. Это раз! Поселюсь в студенческом общежитии — два. А когда наступит подготовка к экзаменам, найду ребят, которые вслух готовятся. Это три. Память-то у меня будь-будь.
— И зачем тебе эта канитель? Не понимаю.
Отец смотрит на Женьку с сожалением, как на балованного ребёнка.
— За коим чертом? Подумал? Нервы последние тратить, силы. Ты инвалид, дура! Первая группа у тебя постоянная, не то что у меня — через каждые шесть месяцев ходи на перекомиссию. Пенсия приличная. Я семью кормлю, сына учу, а ты один. Пошел бы в райсовет, стукнул по столу. Дали бы тебе участок и коробку. Это мне бегать приходится. Тебе за год выстроят. Поживи как человек! Отдохни!
— Дело говорит! — соглашается с отцом Яшка.
Женька долго не отвечает. Култышкой, разрезанной пополам (вроде огромных двух пальцев), утирает нос. Из-под одеяла высовывается голова Абрама Михайловича. Анечка откладывает книгу. Глаза у неё лучистые, мечтательные.
— Проще всего было остаться в Доме инвалидов! — говорит, наконец, Женька.
И вдруг я вижу, как Женька на глазах стареет. От губ бегут к подбородку морщины, опускаются плечи, горбится спина. На нашем единственном стуле сидит старик. Больной и беспомощный.
— Не слушай! — вскрикивает Анечка. — Не слушай! Не надо! Не надо тебе этого дома! Учись!
— Правильно! — говорит Абрам Михайлович и садится на своем лежбище по-турецки. — Иди к ним, к студентам. Пускай будет голодно, трудно, пускай всё, что угодно. И организуй коммуну. Настоящую, чтоб на всю жизнь.
Я, обжигая пальцы, открываю дверцу «буржуйки», смотрю на огонь. По поленьям бегают язычки пламени. Железным прутом выковыриваю из угла печки чуть обгоревшую дощечку. В углу ей не хватает воздуха, и она дымит без пламени. Дощечка вспыхивает, трещит, по ней бегут смоляные слёзы.