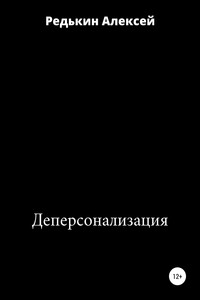Piccola Сицилия | страница 101
На открытый протест не отваживался никто, даже сами евреи. Это означало бы смертный приговор. Пока старшие мужчины находятся в заложниках, молодые рискуют прежде всего их жизнями. А не своими. А нет никого священней родителей.
Невероятно утешительными были маленькие жесты соседей – не евреев, а мусульман и христиан: приветливое слово, улыбка, дополнительный совочек миндаля от торговца на рынке. Тайный знак – вы не одиноки. Если кто-то был добр к тебе в мирное время, теперь это ничего не значило. Важна была лишь солидарность против чужих во времена войны. Если Бог и впрямь последний судия, он не станет смотреть на то, что ты сделал, когда это тебе ничего не стоило, а только на твои дела в тяжкую пору.
Конечно, о политике каждый имел свое мнение. Но позицию – лишь немногие. Иметь мнение было просто – достаточно на рынке обругать политику как погоду, подобно зеленщику, который называл французов то «собаками», то «моими дорогими друзьями», в зависимости от того, кто подходил к его прилавку. А вот позиция требовала внутренней свободы, а эту роскошь бедняки не могли себе позволить. Немцы выцепили тех, кто за пару франков готов был показать в лабиринте Медины дорогу к домам евреев и выдать своих соседей. Чаще всего это были воры и прочий сброд, от которого не приходилось ждать ничего хорошего. Но иногда и вполне благополучные соседи, прежде такие приветливые, могли переметнуться к новым союзникам. От этих не стоило ожидать, что они бросят тонущему спасительную веревку. Против евреев такие ничего не имели, им просто надоело жить под управлением французов, и они поверили немецкой пропаганде, обещавшей освободить их от ненавистных колониальных господ.
Когда заканчиваются последние запасы надежды, душу подпитывают лишь воспоминания. Иногда Ясмина и Виктор выбирались ночью на крышу и сидели, закутавшись в одеяла, рассказывали истории из своего детства в Piccola Сицилии.
О том, как Ясмина уже тогда полюбила ходить на арабские свадьбы к соседям, потому что там можно было танцевать до упаду. Не так, как на свадьбах европейцев, к которым причисляли себя мама и папа́, где дамы держались чопорно, состязаясь в искусстве светской беседы, и по очереди падали в обморок от жары. Ясмина не могла поддержать беседу ни о новейшем романе, ни о фильме из Франции. А вот с арабками в их свободных платьях можно было говорить на языке обычной жизни – о детях, ценах на молоко, а то и о колдовстве, приворотах для неверных мужей. С ними Ясмина чувствовала себя легко, там ей никто не устраивал экзамена. Она всегда ждала момента, когда женщины, которые только что лениво сидели за едой, удивительным образом преображались, стоило выйти на сцену певцу, барабанщику и музыканту на уде, арабской лютне. Когда мужчины с напомаженными волосами и цветком жасмина за ухом принимались за свои переливчатые песни, все вскакивали – девочки, матери и бабушки – и пускались в пляс так, будто лишь для того и родились – танцевать до глубокой летней ночи.