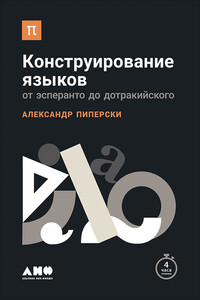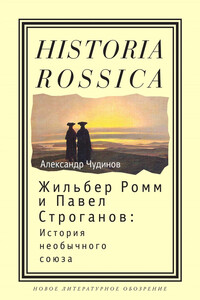Французская революция | страница 38
Не решилась привлечь убийц к ответу и центральная власть, хотя жертвой расправы стали два представителя высшего эшелона администрации, один из которых всего неделю назад входил в правительство. Но после того, как король несколькими днями ранее фактически капитулировал перед мятежным Парижем, на смерть еще двух человек предпочли просто закрыть глаза.
Известия о случившемся разошлись далеко за пределы Франции. Находившийся тогда в Швейцарии Николай Карамзин рассказывает в «Письмах русского путешественника»: «Я завтракал ныне у г. Левада с двумя французскими маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о парижских дамах, сказав, что некоторые из них, видя нагой труп несчастного дю Фулона, терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: “Как же он был нежен и бел!” И маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!!! У меня сердце поворотилось».
Кровавые эксцессы 14 июля и последующих дней остались безнаказанными, что свидетельствовало о деградации и бессилии власти. Русский посланник Иван Симолин, докладывая в Петербург о происходившем тогда в Париже, вынес французской монархии печальный диагноз: «Надо рассматривать Францию при решении стоящих перед нами в данный момент вопросов как несуществующую».
Новая «жакерия»
В самой Франции весть о парижских событиях и о том, что прежней власти фактически больше нет и теперь «все можно», побудила низы, страдавшие от безработицы и дороговизны, к попыткам улучшить свое положение за счет более обеспеченных сограждан. В ряде провинций прокатилась волна разграблений крестьянами замков и поместий. Такой поворот событий воспринимался современниками как нечто совершенно из ряда вон выходящее. Ничего подобного Франция не знала со времен средневековой «жакерии».
Разумеется, между дворянами-землевладельцами и крестьянами существовало немало противоречий. За свои земельные держания крестьяне вносили владельцу земли – сеньору – определенные платежи и исполняли некоторые повинности. Все это в совокупности составляло так называемый сеньориальный комплекс. Однако к концу XVIII века сеньориальные платежи во многих местах уже фактически превратились в обычную земельную ренту. Общий их объем, как правило, составлял от 10 до 20 % чистого (за вычетом производственных издержек) дохода. Естественно, в такого рода рентных отношениях арендатор всегда заинтересован понизить плату, арендодатель, напротив, стремится ее повысить, что создает почву для противоречий между ними. Тем не менее во Франции Старого порядка с ее развитой правовой культурой подобные конфликты между крестьянами и сеньорами решались обычно в судах.