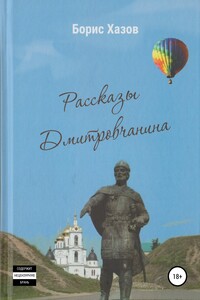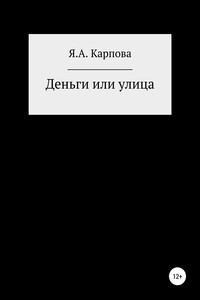Мы больше нигде не дома | страница 24
Как в настоящей, хорошей книге. Как у Достоевского.
Потому что это были какие-то отдельные части, исчезнувшего, разоренного дома.
Места, где все это было на месте… вот такие вещи-сироты, вещи-бомжи.
Очень плохо находиться внутри настоящей, хорошей книги.
Авшалом оказался абсолютно серьезный и трагический персонаж.
Дико талантливый. Осознающий это. И совершенно разрушенный.
И цепляющийся за обломки разных культур, которые ползут, как оползень, за них не уцепишься…
Ну, вообщем, я пробыла там минут 20, и мне захотелось бежать.
Именно раз и навсегда убежать.
И забыть саму идею каких-то близких отношений.
Я вызвала такси, и оно приехало через три минуты.
Я еще позвала его со мной поехать, проводить меня. Я его уговаривала.
Сказала: — Ну поехали, я тебя хоть как-то приласкаю…
Но он сказал что нет, не поедет со мной, завтра вставать рано и голова болит, посадил меня в это такси, спросил еще раз, точно ли я хочу уехать — но факт приехавшего такси, был так очевиден.
А у меня было желание быстро-быстро вырваться, из этого дома.
Вырваться из хорошей книжки.
В том числе, и из моей хорошей книжки «Бедная девущка».
Плохо мне жилось когда-то внутри этой, еще ненаписанной книжки.
И не хочу я никогда больше туда возвращаться…
Вот так. … Рядом с ним я такая… буржуазка…
И всегда была.
Даже когда я была несчастна и писала эти песни трагические.
Все равно и в 20 лет я бы не полюбила такого.
И Ван Гога я бы не полюбила.
Все мои монстры и кащеи — это такие «хорошо упакованные безумства…»
Последний, в кого я влюбилась, был модный писатель.
Я почти всегда в кого-нибудь влюблена.
Если не влюблена — то непременно мечтаю влюбиться.
И придумываю себе каких-то персонажей. Как в театре.
Но периодически из этого ничего не выходит.
А жалко. Был красивый костюм и грим. Шапочка и полосочка на веках.
И красивая декорация — Москва — Тверской бульвар.
Но я как-то быстро оказалась за кулисами, в чулане…
И убежала обратно в театр. В освещенный зрительный зал.
В «Дом 12». Туда пришла моя любимая подруга.
И можно было сидеть в кресле, есть крем-брюле и рассказывать подруге всю эту драму.
А мимо ходили знакомые художники-поэты и говорили: — Привет, Юля…
И все это был мир уюта, успеха и благополучия.
Эдакое Крем-брюле.
А для Авшалома — я — непонятное животное.
С которым, непонятно вообще, как себя вести.
Одно из непонятных животных, привычно окружающих его в непонятной чужой стране.
И то, что мы оба — евреи, возможно, показалось ему какой-то ниточкой, связующей…