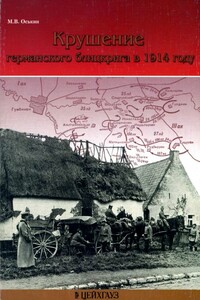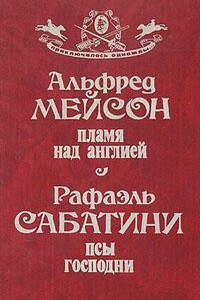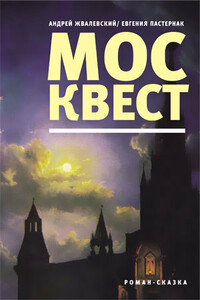Крах плана Шлиффена. 1914 г. | страница 54
Развертывание германских сил в Восточной Пруссии завершилось 29 июля, в то время как в России 27-го числа только-только приступили к оперативным перевозкам войск. Спокойствие на государственной границе нарушалось лишь заблаговременно сосредоточенной в приграничных районах русской кавалерией, тщетно пытавшейся пробиться вперед для нанесения удара по противнику в период его сосредоточения. Поэтому немцы могли достаточно спокойно подготовиться к отражению русского наступления, организовать взаимодействие войсковых единиц и, что особенно важно, наладить работу службы тыла. Именно скорость германской мобилизации и сосредоточения не позволила русской стратегической коннице совершить глубокий набег на неприятельскую территорию.
Замышляемое как операция армий фронта, русское вторжение в Восточную Пруссию протекало без непосредственного взаимодействия русских армий друг с другом. Замысел немцев по разделению действий русских армий посредством оборонительного барьера в районе Мазурских озер блестяще оправдал себя. Поэтому, как считает военный историк А.А. Строков, наступление русских армий на различных направлениях в итоге обозначило вторжение русских в Восточную Пруссию не как фронтовую операцию, в которой армии связаны общностью цели и взаимной поддержкой, а как две разрозненных армейских операции[54].
Тем не менее при организации наступательной операции подразумевалось, что взаимосвязь армий будет обеспечена через тылы: с восточной стороны Летценского укрепленного района, где немцы держали под своим контролем узкие междуозерные дефиле. Так, 28 июля начальник штаба Верховного главнокомандующего (наштаверх) Н.Н. Янушкевич напоминал главнокомандующему армиями Северо-Западного фронта (главкосевзапу) Я.Г. Жилинскому о необходимости соединения русских армий: «Между 1-й и 2-й армиями должна быть установлена тесная связь путем выставления против фронта Мазурских озер достаточно прочного заслона»[55].
Предполагалось, что соединение русских армий, преследующих якобы непременно бегущего противника, не за горами, а наличие конных масс на флангах наступавших армий должно было упрочить это взаимодействие. Согласно подсчетам стратегов Ставки Верховного главнокомандования, германская группировка в Восточной Пруссии должна была вдвое уступать силам русского Северо-Западного фронта. При подсчете русскими не учитывались немецкие ландверные и резервные части, хотя германские резервные корпуса, за счет выделения для них кадровых офицерских и унтер-офицерских чинов, практически не уступали по боеспособности перволинейным корпусам, а ландвер был подготовлен гораздо лучше русского ополчения, с которым его опрометчиво сравнивали в русских штабах.