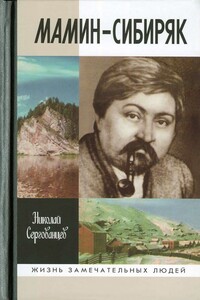Неизвестный В. Я. Пропп | страница 92
Умирать?
Умирать не страшно. Только бы не слишком долго.
Но убивать?
Федя не представляет себе боя. Но он представляет себе переход. Все идут, молчат. Потом стоят, стоят. Они — уже мертвые, хотя и двигают ногами, нагруженные ранцами и винтовками. И вдруг смерть представляется ему так: смерть — это серое. Серость все растет, растет, и ничего не видно, и нет воспоминаний, все, все безразлично. Семьдесят верст в день. И нет воды. И нет табаку. И уже ничего не хочется. И после этого можно убивать. Сперва умереть. Потом убивать.
Неужели он дойдет до этого?
Война — это гниение.
Федя знает себя. Он обходит жучков, чтобы не наступить на них. Но он жесток. У него есть задатки каменного равнодушия. Он с войны вернется другим. Таким, который никогда не смеется.
И это будет. Это будет не с ним. Это будет со всеми. Люди перестанут плакать. Они перестанут смеяться.
Война — это остановка.
Федя не может воевать. Его тошнит.
Смутное решение: не воевать. Куда угодно — в лазарет, в кухню, в канцелярию, в тыл — но не на фронт. Дезертир? Да, дезертир. Дезертир убийства, а не дезертир умирания.
Но вдруг он мучительно краснеет. Острый стыд. Честнее быть там, где умирают. И он будет там. И сразу стало легче: да, он пойдет на фронт, на самые передовые позиции. Но как быть там, где умирают, но не быть там, где убивают?
Может быть, надо стрелять в воздух?
Все неясно.
Утром все уже знали, что ночью объявлена мобилизация. Служанки выли и отпросились в деревню. Мама плакала.
Резали петухов и со слезами пекли сладкие пироги: проводить Федю. На дорогу делали пирожки и котлеты — самые лучшие, и было все равно, сколько масла уйдет. Пусть побольше, побольше масла. Мама со слезами на глазах растирала яйца с мукой и сахаром: делали какое-то особое тесто.
Федя еще раз прошелся по саду. Кое-где, как всегда, розовели яблоки. Тыквы, дыни, арбузы, свекла — все это зеленело, зрело, ликовало, вбирало солнце и хотело жить. И жило. Вот капуста. Крепкие, налитые кочаны как будто смеются.
Все тянется к солнцу. Федя глубоко вдыхает воздух. Будь что будет.
Вечером запрягли. Под сиденье положили особенно много сена, чтобы было мягко сидеть. И мама, подымая углы передника к глазам, крепилась, чтобы не упасть, чтобы не разрыдаться. Она стала засовывать передник в рот и кусать его.
Федя говорил себе: может быть, я вижу ее в последний раз. Что она должна переживать? Но ему не хотелось плакать, не хотелось прощаться навсегда. Казалось, что он, как всегда осенью, уезжает в город раньше и что через месяц все опять увидятся.