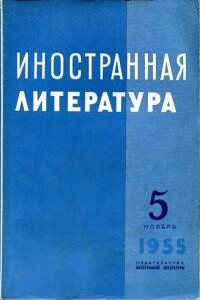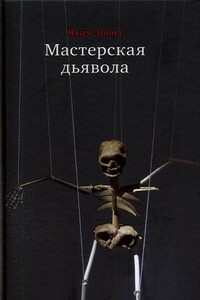Река Лажа | страница 10
За отцовой кончиною, маминым сдвигом и свирепыми службами в церкви лоялистские танки, явление Думы и конституционные роды отшумели неясно и чуждо, как футбол у соседей, и раздавшееся до упора безвременье приняло их уже как родных. Городское ленящееся половодье, обойдя их квартал, проникало в складские подвалы Аптекарского переулка, и вода увлекала разбухший картон и седую растрепанную бечеву, подтопляя лежащую ниже двумя переулками Placedu Marché: три палатки торговых (он помнил вишневую: овощи-фрукты, в несвежем окошке — глубокая тьма); музыкальный киоск продержался немного и сгинул; Птицын не уважал это место за неповоротливость и хамоватость и хотел бы устроить поджог. В затяжные недели предшколья, пропадая в траве пустыря от маячившей неотвратимо неволи, он надумал сказаться невызревшим, финистом-телепнем, но два дня его несостоятельного недоумства (запирательство в ванной, два громких паденья с кровати в ночи, подзыванье с балкона собаки как кошки и прочая чушь) столько отняли сил и так мало затронули мать, так пугала висящая круча возможного развенчанья, что он бросил валять дурака и смирился с судьбой. В сентябре к их столу понаехала скопом вся двоюродная непонятная рать, братья-сестры запаса по матери, много превосходившие позднего Птицына в росте, но едва ли хоть кто-нибудь вширь; вилки сыпались на пол и вязли когтями в янтарном ковре. К тому времени мама вернулась на лабораторных полставки и в довесок устроилась дворничать по вечерам по периметру желтого, в черных следах общежития во вьетнамском затоне поселка. Птицын, к первому классу отнюдь не освоивший веник и мокрую тряпку, в чем упорствовал всю свою жизнь, счел за честь споспешествовать маме в ее незавидном труде. Общежитская простота не стеснялась жить грязно: двор ломился от слитых молочных пакетов, мокрых свертков газетных с картофельною чешуей, легковесных яичных картонок, тяжелых подгузников и коробок от пиццы. Мамин выход, по договоренности с дэзом, был поздний; с разрастанием ночи дорогу замазывал сумрак. Освещая путь скудным брелочным фонариком, Птицын длинно, в ненужных подробностях, пересказывал с вывертом школьные дрязги: его класс, двадцать девять голов, был безвредно задирист, нестрашно глумлив и исконно горазд на нытье и стукачество; он шатался по палубе, всем существом сторонясь болтовни, избегая ненужных касаний, надуманных терок, но стараясь следить за любою интригой, весь подсвеченный собственным полусиротством, о котором никто не желал догадаться. В башмаках из резины они проходили размокший поселок навстречу крепчающей тьме, прорезаемой вспышками пенсионерского радио из погашенных кухонь. Вечер гнал к ним приятельский жар от раскопанных труб, песни дальних лесных каторжан, редкие голоса, поворачивающие прочь. Мать ходила бесшапочно вплоть до серьезной зимы, что умели немногие, но Аметист не воспринял привычки и вырос мерзляв и запахнут и который декабрь все не мог подобрать себе пуховика по любви, ненавидя все то, что в итоге, отчаясь, напяливал и обживал. Поначалу он твердо рассчитывал, что разбор общежитских завалов одарит его не одною счастливой находкой, и, забросив положенные рукавицы, запускал руки заживо в то, что манило сперва в тусклом свете фонарном, но всегда это было все то же: пакеты из-под молока, комья ржавых колготок, бутылки из ванной с невнятицей на этикетках, запаскудевшие номера «Спид-инфо» и отжившие лампы с вихлявою нитью внутри; Птицын вглядывался, выверяя, но нет, никогда, и, в три дня изведясь на безрыбье, он оравнодушел к их общей помойной голгофе и стал чаще впадать в непричастность, седлая устроенный здесь же турник-рукоход, поднимавший его ближе к дымному, млынному небу, пока мать молчаливо-прицельно исполняла свой дэзовский ангажемент.