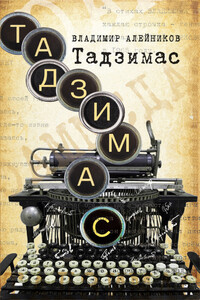Седая нить | страница 137
Он внимательно посмотрел ворошиловские рисунки.
– Замечательные работы! – сказал он. – Да, настоящие. Надо помочь. Обязательно надо, Игорь, тебе помочь. Вот ведь только: пообещаешь, обнадёжишь, с похмелья, – и вдруг…
Он запнулся, смутился, сгорбился.
И совсем уже тихо, глухим полушёпотом, грустно продолжил:
– А ведь надо, надо помочь!..
– Ну, себя-то неволить нечего, – так сказал ему Ворошилов. – Пусть идёт всё само собой. Как уж выйдет. А там – разберёмся. Приходи в себя лучше. Держись. Отдыхай. Набирайся сил. Просто – дыши. Смотри – да попристальнее – на мир.
Так вот мы и сидели втроём, за вином, в беседке дощатой, – и негромко, так, что никто не слыхал нас тогда, – говорили.
О чём? Да о разном. О том, что развеялось в лиственном шелесте, в птичьем щебете, в свете волшебном подмосковного летнего дня.
Вспоминать об этом – непросто, да и душу ранят теперь, в дни иные, в иное время, отголоски былых речей.
Потом, поправив здоровье и наговорившись с нами, Галич встал, с церемонной вежливостью поблагодарил нас за помощь.
Получилось это, мне помнится, у него неловко и трогательно.
Попытался он улыбнуться – и вышло это не просто грустновато, и только, нет, вышло у него это слишком уж грустно.
– Игорь, Володя! Скажите мне – вы ведь ещё побудете здесь до вечера, правда? – спросил он как-то совсем по-детски, но странным образом это сразу соединилось со всем его обликом – крупного, вальяжного, грузного, тёртого, видавшего всякие виды, немолодого уже, но ещё и не старого, зрелого, солидного мужика, с его, таким очевидным, ещё играющим в нём, сквозь боль, сквозь тоску, сквозь смятение, притяжением, блеском, шармом, с артистичностью несомненной, со всеми теми чертами, которые, в совокупности своей, всё время и делали его, человека отважного, в глазах современников – Галичем, запретным и легендарным, выразителем, так получилось, своей, непростой эпохи, чей голос звучал годами с магнитофонных лент по всей огромной стране, чья жизненная позиция вызывала, и это важно, всеобщее уважение, чья трагедия, воплощённая в нём самом, таком, каким был он, приоткрылась тогда перед нами.
– Я вернусь! – заверил он нас и тяжело отодвинулся – в некую странную даль, в сторону, в светлую зелень.
Жить ему оставалось – восемь с половиной, всего-то, лет.
Но никто абсолютно этого – что за доля? – ещё не знал.
(…Давней зимой, в феврале восьмидесятого года, познакомился я, – случайно, или, может быть, не случайно, и, скорее всего, судьба так устроила всё, чтоб встреча наша всё же произошла, – с Алёной, дочерью Галича.