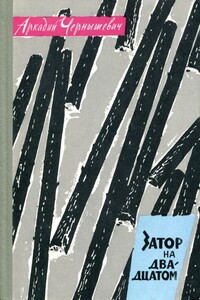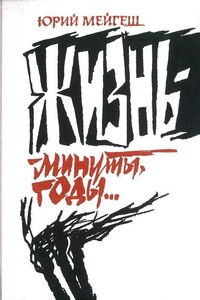Разгуляй | страница 25
— Немцы в войну взорвали, — робко заметила Зоя.
— Говорят… А вот где святые мощи, одному Богу известно, — сокрушенно развел руками старик.
— Может, их перенесли обратно в пещеры? — предположила Зоя.
— Вряд ли, — многозначительно проговорил старик. — Место погребения Феодосия было зело изукрашено тщанием сына заезжего варяга Шимона. Пожелав оковать гроб преподобного, он пожертвовал на это пятьсот фунтов серебра и пятьдесят фунтов золота.
— Ничего себе!.. А кто был этот Шимон? — полюбопытствовал я.
— Он был тысяцким у великого князя Юрия Долгорукого.
— Простите, а вы имели какое-нибудь отношение к Лавре? — неожиданно спросила Зоя.
— Библиотекарем здешним числился я.
— Это теперь уже? — я взглянул на старика, и тенью давно минувших времен показался он мне.
— Не теперь, а до высылки, — уточнил старик и, вздохнув, добавил: — На все воля Божья…
Наступила заминка, и, чтобы как-то преодолеть ее, я снова заговорил о Феодосии:
— Удивительно живое, одухотворенное лицо.
— Это был один из величайших духовных подвижников и просветителей земли Русской, — неожиданно воодушевился старик. — Экспансивный, веселый, энергичный южанин из-под Курска, он был зачинателем той монашеской волны, которая растеклась по Руси — вплоть до вятских лесов… Ведь 988 год — это всего лишь общая точка в отсчете российского православия. А подлинное крещение Руси совершилось позже, в одиннадцатом-двенадцатом веках, и крестили ее киево-печерские монахи…
— Конечно, они в то время были основными носителями государственной идеологии, — как само собой разумеющееся важно резюмировал я.
— Это уже потом, значительно позже, — спокойно возразил старик. — А начиналось православие на Руси, как, впрочем, и изначально в Римской империи, с оппозиции изжившему себя общественному укладу, с мужественного и сурового подвига исповедничества. В те времена все наиболее одухотворенное, талантливое, энергичное устремлялось в монастыри. Это были умельцы, работяги, мастера на все руки — и одновременно это интеллектуалы, духовидцы, мистики. Они рассеялись на просторах русской земли, чтобы через сто пятьдесят — двести лет вновь возродиться в еще более широких, поистине грандиозных масштабах. То было монашеское движение, поднятое преподобным Сергием Радонежским, и направлено оно было на национальное возрождение, на борьбу с татаро-монголами… А когда встал вопрос колонизации Сибири, освоения Севера, опять в эти дикие края устремились «гончие псы за сердцами» — монахи, одетые в старые, мильон раз штопанные и чиненные подрясники… Монах того времени — это прежде всего строитель, администратор, руководитель. Но он же и воин, он же и пахарь, и огородник, и агроном, и рыбак, и охотник… Я говорю, разумеется, только о приливных волнах монашеского движения на Руси и оставляю в стороне декоративную изнеженность большинства заурядных общин…