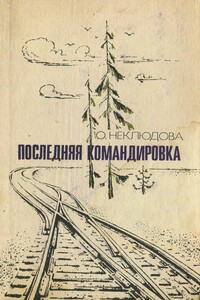Кинг-Конг-Теория | страница 8
Мы хорошо знаем, к чему мы откатимся, если не решимся на эту таинственную гендерную революцию. Это всесильное государство, которое инфантилизирует нас, вмешивается во все наши решения, якобы для нашего же блага, держит нас в детских подгузниках, в невежестве, в страхе наказания и исключения. Покровительственное отношение, ранее распространявшееся только на женщин, и применение стыда как передового оружия, позволяющего держать их в изоляции, пассивности, бездействии, теперь может распространиться на всех. Понимать механизм внушения нам чувства неполноценности, понимать, как нас вынуждают быть самим лучшими его стражами, – значит понимать механизм контроля над всеми. Капитализм – это религия равенства, она подчиняет нас всех и заставляет каждого почувствовать себя в западне – в той западне, откуда женщины никогда и не выбирались.
Такую развратную женщину невозможно изнасиловать
«В Соединенных Штатах и других капиталистических странах законы, касающиеся изнасилования, были изначально разработаны для защиты мужчин высших классов, дочери и жены которых могли подвергнуться насилию. Возможное насилие над женщинами рабочего класса обычно мало волновало суды; в результате удивительно малое число белых мужчин преследовались в судебном порядке за сексуальное насилие в отношении этих женщин».[4]
Анджела Дэвис «Женщины, раса и класс», 1983[5]
Июль 86-го года, мне семнадцать лет. Мы – две девчонки в мини-юбках, на мне полосатые колготки и низкие красные «конверсы». Мы возвращаемся из Лондона, где просрали все бабки на диски, краску для волос, всевозможные аксессуары с шипами и гвоздями, и теперь у нас нет ни гроша на обратную дорогу. Автостопом мы добираемся до Дувра, целый день угрохан, клянчим деньги на билет на паром прямо у кассы, наконец мы в Кале, уже глубокая ночь. На пароме ищем еще кого-нибудь с тачкой, чтобы нас подбросили дальше. Двое итальянских красавчиков, курящих траву, довозят нас до Парижа и высаживают посреди ночи на заправке, где-то на кольцевой дороге. Мы ждем, когда встанет солнце, а с ним и дальнобойщики, чтобы найти прямую попутку до Нанси. На улице почти тепло, мы болтаемся от стоянки к магазину.
Останавливается тачка, в ней трое, белые, типичные пацаны с района тех времен: пиво, травка, песни Рено[6]. Мы не хотим садиться к ним, потому что их больше. Они из кожи вон лезут, чтобы нам понравиться, шутят, уговаривают. Им удается нас убедить, что глупо ждать на западном выезде из Парижа и лучше они нас отвезут на восточную сторону, откуда легче поймать тачку до Нанси. И мы садимся в машину. Из нас двоих я больше повидала, я рисковее, и это было мое решение. Как только захлопнулись двери, мы поняли, что сделали глупость. Но те пару метров, пока еще было не поздно, вместо того, чтобы завопить «Остановите, мы выходим», каждая из нас, сидя в своем углу, убеждала себя, что хватит разводить паранойю и видеть в каждом встречном насильника. Мы с ними болтаем уже больше часа, они выглядят как обычные дрочеры, смешные, совершенно неагрессивные. Эта близость навсегда останется в памяти: близость мужских тел в замкнутом пространстве, откуда невозможно выбраться, где мы заперты с ними, непохожие на них. Мы всегда непохожи, с нашими женскими телами. Мы никогда не в безопасности, никогда не равны им. Мы принадлежим к полу страха, унижения, мы – чужой пол. На этом исключении наших тел и строятся маскулинности, их пресловутая мужская солидарность. В основе этого пакта – наша неполноценность. Их мужской смех, смех сильных, тех, кого больше.