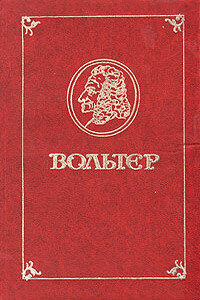Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи | страница 69
Внемлите желанию, которое на первый взгляд, быть может, покажется нечестивым, но умолчать о котором я почти не могу себя заставить! О, если бы все главы государства, все виртуозы и мастера политики навсегда остались чужды даже отдаленнейшему чаянию религии! О, если бы никого из них не коснулась сила этого заразительного воодушевления! Ведь они никогда не умели различать своего самобытного внутреннего содержания от своей профессии и своего официального характера. А именно это стало для нас источником всей порчи. Почему должны были они приносить в собрание святых мелкое тщеславие и странное самомнение, будто преимущества, которые они могут дать, важны во всех без различия отношениях? Почему должны были они унести с собой почитание служителей святыни в свои дворцы и судилища? Вы, быть может, правы в своем желании, чтобы никогда край священнического одеяния не прикасался к полу царских палат; но разрешите и нам желать, чтобы никогда пурпур не лобызал праха на алтаре; ведь если бы не случилось последнее, за ним не произошло бы и первое. Нужно было бы никогда не впускать властителя в храм, пока он не снимет с себя перед его вратами всех своих царских украшений и не отложит в сторону рога изобилия своих щедрот и почестей. Но они пользовались этим рогом изобилия здесь, как и повсюду, они мнили, что могут украсить простое величие небесного здания обрывками своего земного великолепия; и вместо того, чтобы выполнять священные обеты, они приносили, в виде жертвы высшему, свои мирские дары. Всюду, где властитель объявлял церковь общиной с особыми правами, исключительной личностью в гражданском мире, – а это всегда бывало, когда уже наступало это злосчастное состояние, когда общество верующих и общество жаждущих веры смешивалось между собой неправильным способом, неизбежно ко вреду первого, ибо до этого смешения религиозное общество никогда не было достаточно велико, чтобы обратить на себя внимание властителей, – всюду, повторяю, где властитель прибегал к этому опаснейшему и гибельнейшему покровительству, гибель этой церкви была уже почти непоправимо предрешена и начата. Подобно ужасной голове медузы действует такая государственная хартия политической гегемонии на религиозное общество: все каменеет, как только она появляется. Все разнородное, что лишь на мгновение сцепилось, отныне неразрывно связано между собой; все случайное, что легко могло бы быть отброшено, отныне навсегда закреплено; одеяние срослось с телом в одно целое, и каждая неуместная складка как бы создана навеки. Более широкое и неподлинное общество теперь уже не отделимо от высшего и более узкого, хотя и должно было бы быть отделено; его уже нельзя ни разделить, ни распустить; оно уже не может изменить ни своей формы, ни символов своей веры; его убеждения, его обычаи, – все это осуждено пребывать в том состоянии, в котором оно находилось именно в этот момент. Но это еще не все: члены истинной церкви, которые, наряду с другими, входят в состав этого общества, отныне, можно сказать, насильственно исключены из участия в управлении им и лишены возможности делать для него даже то малое, что еще могло быть сделано. Ибо теперь приходится управлять такими делами, которыми они не могут и не хотят управлять; теперь нужно руководить земными вещами и заботиться о них, и хотя они знакомы с такими заботами по своим домашним и гражданским делам, но все же они не могут считать такого рода вещи задачами своего священнического сана. Это есть противоречие, которое не укладывается в их сознании и с которым они никогда не могут примириться; оно не согласуется с их высоким и чистым понятием о религии и религиозном общении. Ни в отношении к истинной церкви, к которой они принадлежат, ни в отношении к более широкому обществу, которым они должны руководить, они не могут понять, что им делать с домами, землями и богатствами, которыми они могут обладать, и члены истинной церкви смущаются и теряются в этом противоестественном состоянии. А если еще, сверх того, то же самое событие приманивает тех, кто в ином случае навсегда остался бы вне общества; если теперь становится интересом всех гордых, честолюбивых, своекорыстных и сварливых проникнуть в церковь, общение с которой при иных условиях доставляло бы им только глубочайшую скуку; если эти люди начинают теперь лицемерно обнаруживать участие в святых вещах и знакомство с ними, чтобы добыть себе мирскую плату за это, – то как могут избегнуть поражения члены истинной церкви? Итак, кто же несет вину за то, что недостойные люди занимают место зрелых святых и что под их присмотром может проскользнуть и укрепиться в церкви все, что более того противно духу религии? Кто иной, как не государство с его плохо рассчитанным великодушием? Но оно еще более непосредственным образом есть причина того, что порвалась связь между истинной церковью и внешним религиозным союзом. Ибо, оказав последнему это злосчастное благодеяние, оно сочло себя вправе рассчитывать на его деятельную благодарность и возложило на него три в высшей степени важных поручения по своим делам. На церковь оно более или менее перенесло заботу и наблюдение над воспитанием; оно желает, чтобы под покровительством церкви и в форме религиозного общения народ обучался обязанностям, которые не закреплены в законе, и чтобы церковь пробуждала в нем истинно гражданский образ мыслей; и от силы религии и поучений церкви государство требует, чтобы они делали его граждан правдивыми в их высказываниях. И в награду за эти требуемые им услуги оно лишает церковь ее свободы – как это имеет место почти во всех странах культурного мира, где существуют государство и церковь; оно относится к церкви как к учреждению, которое установлено и изобретено им, – и мы должны согласиться, что почти все ее пороки и злоупотребления суть его изобретение – и оно приписывает себе одному способность решать, кто пригоден выступать в этом обществе как образец и служитель религии. И вы все-таки хотите упрекать религию за то, что не все эти люди суть святые души? Но я еще не исчерпал своих обвинений; даже в самые глубокие мистерии религиозного общения государство привносит свой интерес и тем загрязняет их. Когда церковь с пророческим благоговением посвящает новорожденных Божеству и стремлению к высшему, то при этом государство хочет вместе с тем получить из ее рук список своих подданных; когда церковь дает свой первый братский поцелуй подрастающим как людям, взор которых впервые проник в святилища религии, то для государства это должно быть и свидетельством первой ступени их гражданской самостоятельности; когда она общими благочестивыми желаниями освящает слияние двух лиц, которые, будучи символами и орудиями творческой природы, вместе с тем посвящаются в носители высшей жизни, – то это должно быть также санкцией их гражданского союза; и даже когда человек исчез с арены этого мира, государство не хочет верить этому, пока церковь не подтвердит, что она вернула бесконечности душу усопшего и ввергла его прах в святое лоно земли. Что государство, таким образом, всегда преклоняется перед религией и ее почитателями, когда оно принимает что-либо из рук бесконечности и снова отдает ей, – это обнаруживает в нем почитание религии и стремление сохранить в себе сознание своих собственных границ; но совершенно ясно, что и все это действует лишь губительно на религиозное общество. Отныне нет ничего в отправлениях церкви, что относилось бы к одной только религии, или в чем религия, по крайней мере, была бы главным делом. В святых речах и наставлениях, как и в таинственных и символических действиях все полно правовых гражданских отношений, все уклонилось от своего первоначального характера и существа. Поэтому есть много вождей церкви, которые уже ничего не понимают в религии и все же в состоянии приобрести большие должностные заслуги в качестве служителей религии; и много есть членов церкви, которым даже не приходит в голову искать религии и которые все же достаточно заинтересованы в том, чтобы остаться в церкви и принимать участие в ней.