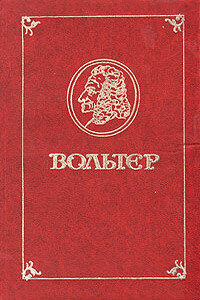Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи | страница 60
Находить вселенную на первом пути, на пути отрешенного созерцания, было делом древнего восточного мистицизма, который с изумительной смелостью, сильно приближаясь к нашему новейшему идеализму, непосредственно связывал бесконечно великое с бесконечно малым и находил всякое бытие тесно граничащим с небытием. Из созерцания же масс и их противоположностей, очевидно, исходила всякая религия, схемой которой было небо или стихийная природа, и политический Египет был долго совершеннейшим хранителем этого умонастроения, в котором – как, по крайней мере, можно предполагать – чистейшее созерцание первичного и живого в смиренном терпении тесно соприкасалось с самым мрачным суеверием и самой бессмысленной мифологией. И если ничего нельзя сказать о религии, которая, исходя первоначально из искусства, покорила бы народы и эпохи, то тем яснее то, что художественное чувство никогда не приближалось к указанным обоим видам религии, не обливая их новой красотой и святостью и не смягчая любовно их первоначальной ограниченности. Так древние мудрецы и поэты, и, преимущественно, творцы пластического искусства в Греции, придали религии природы более прекрасную и радостную форму: так и в мифических изображениях божественного Платона и его школы, которые и вы признаете скорее религиозными, чем научными, мы видим прекрасный подъем упомянутого мистического самосозерцания до высшей вершины божественности и человечности; мы видим в них также живое стремление, обусловленное лишь привычной жизнью в области искусства и присущей ему, и в особенности поэзии, силой, – стремление проникнуть от этой формы религии к противоположной, связав воедино обе. Поэтому можно лишь преклоняться перед самозабвением, с которым он, как справедливый властитель, не щадящий даже мягкосердечной матери, со священной ревностью порицает искусство; ибо что в нем не есть упадок или порождаемое им заблуждение, то касается лишь добровольной услуги, которую оно оказало несовершенной религии природы. Теперь оно не служит никакой религии, и все теперь иначе и хуже. Религия и искусство стоят теперь рядом, как два дружественных существа, внутреннее родство которых, хотя взаимно непризнанное и едва чуемое, все же многообразно прорывается наружу. Как разнородные полюсы двух магнитов, они сильно влекутся друг к другу, но не могут преодолеть своей тяжести и дойти до полного соприкосновения и объединения. Дружеские слова и сердечные излияния всегда просятся на их уста, но всегда возвращаются назад, не в силах найти подлинный характер и последний смысл своей мечты и тоски. Они жаждут бо́льшего самораскрытия, и, вздыхая под одним и тем же гнетом, они смотрят на свои общие страдания, быть может, с внутренней симпатией и глубоким чувством, но без подлинно объединяющей любви. Осуществится ли счастливый миг их соединения под действием этого общего гнета? Или, быть может, из чистой любви и радости скоро взойдет новый день для одного из них, столь ценимого вами? Но что́ бы ни ждало их впереди – тот из них, кто будет первым освобожден, наверное, поспешит, по крайней мере, из братской верности позаботиться о другом. Теперь же не только обе формы религии лишены помощи искусства, но и само по себе их состояние хуже, чем когда-либо. Оба источника восприятия и чувства величественно и обильно притекали от бесконечного, пока научное умничание, лишенное истинных принципов, еще не нарушало своею пошлостью чистоты сознания, хотя каждый из источников сам по себе не был достаточно богат, чтобы производить высшее; теперь же они сверх того загрязнены потерей наивности и гибельным влиянием воображаемого и ложного знания. Как очистить их? Как придать им достаточно силы и полноты, чтобы, оплодотворяя почву, они порождали на ней не одни лишь эфемерные продукты? Свести их и соединить в одно русло – вот единственное, что может осуществить религия на пути, которым мы идем; это было бы событием, из лона которого она вскоре вышла бы в новой и более прекрасной форме навстречу лучшему будущему.