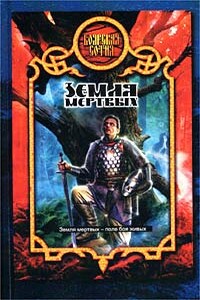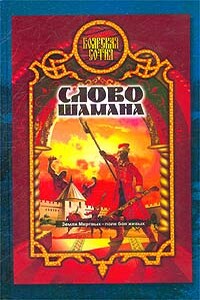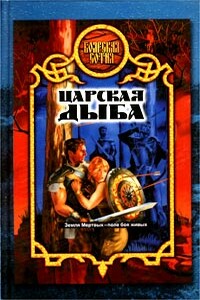Новгородская ведьма | страница 113
— Принес? — еще загодя, из комнаты крикнул Лаврентий.
— Да…
Эльвэнильдо вошел в горницу. Лаврентий уже не лежал — быстрыми, тихими шагами расхаживал взад-вперед, то и дело поглядывал в окно. Все лампады перед иконами в доме горели. Везде чувствовался запах масла и ладана.
— Ты что? — спросил Эльвэнильдо, осторожно кладя икону на стол. — Бесов гоняешь, что ли? Чего ты боишься?
— Я ничего не боюсь… — сказал Лавр. Он приблизился к столу и наклонился над платком, закрывающим икону. Платок весь пропитался кровью.
— Прости, — пробормотал Харузин. — Кажется, я плохо ее вытер… Там везде грязь. И люди ходят. Я боялся, что меня остановят, знаешь? «Гражданин, куда это вы с произведением искусства четырнадцатого века?» — последнюю фразу он произнес почти ернически и тотчас смутился почти до обморока. Впрочем, он и дурака валял больше от смущения.
Однако Лаврентий даже не заметил этой нелепой выходки.
— Ты здесь ни при чем, Сванильдо, — сказал он, снимая платок и бережно откладывая его в сторону. — Посмотри внимательно.
Эльвэнильдо, все еще красный, приблизился и тронул иконную доску рукой. Из ран на лице Богородицы бежала тонкая струйка крови. Харузин стер ее пальцем, но кровь проступила снова.
— Что это? — прошептал Эльвэнильдо.
…Нет, он, конечно, слышал, что иконы могут источать разные жидкости. Слышал также подробное, вполне материалистическое объяснение того, как это делается. Разные приспособления, изготовленные ушлыми церквачами. А также просто свойство некоторых иконных красок. Они размягчаются под воздействиями внешней среды и начинают течь…
Но это была самая настоящая кровь. И она истекала из самой обыкновенной доски. И краски не успели размягчиться под разными воздействиями, потому что икона была написана совсем недавно. Она вовсе не четырнадцатого века, как пытался острить Харузин. Ее создавали уже на памяти Лавра — он так сказал. Он даже назвал имя иконописца.
Эльвэнильдо облизал палец. Обычный железистый вкус. Кровь. Слезы сами собой подступили к глазам и хлынули неудержимо. Ему было жаль Богородицу, жаль людей, жаль Иисуса, который сейчас младенец, но спустя двадцать с небольшим лет умрет страшной смертью.
Он жалел весь мир, и это чувство грозило разорвать душу в клочья. Но и на это Харузин был в тот миг согласен, лишь бы каждый клочок послужил к уменьшению общей боли.
— Слушай, Лавр… — пробормотал он наконец (И откуда эта дурацкая интеллигентская привычка — непременно что-нибудь сказать, выразить отношение? Харузин ненавидел себя за это, но промолчать не сумел). — Лавр… Это же чудо, да? Настоящее?