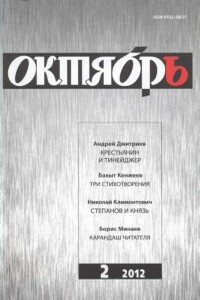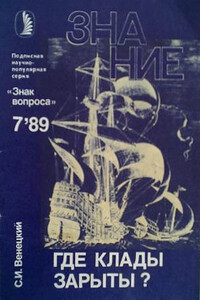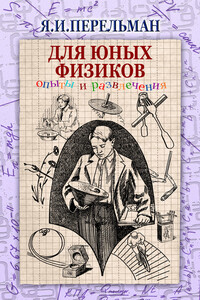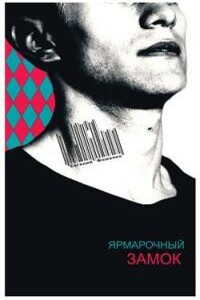Неопавшие листья русского языка | страница 53
Но в дальнейшем, уже в наше время, произошло некое стилистическое раздвоение корня. В современном массовом языковом сознании, преимущественно молодежном, слова «подлый», «подлость», «подлец» и «подличать» — слишком «высокие». Отреагировать на чьи-либо, так сказать, нелицеприятные действия словами «это подло», или «вы подличаете», или «вы подлец» — слишком мягко, слишком «интеллигентно», недейственно. Это не «полновесное» оскорбление.
Зато пышным цветом расцвели «подлянки», «подляжки» и «подлюки», которые, опять же, ложноэтимологически притянули к себе «падлу», «падаль» и проч. Или наоборот — были притянуты, что не так существенно.
Со словом «подлость» произошло то, что отражает существенную тенденцию современного языка. «Подлость» («подлый», «подличать») как бы «зависла» между зоной агрессивных, сниженных, «разнузданных» инвектив и зоной, если можно так выразиться, «структурных», социально значимых инвектив, которые особенно актуальны для сферы права.
Условно говоря, между «антисемит» и «гнида», между «взяточник» и «тетеха».
Таких хороших, семантически ясных русских нравственно-оценочных слов, которые остались «не у дел», много. Например, фраза Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя» «Мы, работники МУРа, не имеем права шельмовать» у современного подростка вызывает снисходительно-пренебрежительную улыбку. «Шельмовать» — это семантически «отстойно». То ли дело «хитрожопить». Так же, как все в том же фильме Фокс улыбается на слово «пожурил». Из языка уходит «золотая середина», здравый смысл, точка отсчета, чувство меры. Нормы, наконец. Это — глобальная тенденция, охватывающая все сферы речи — от фонетики и интонации до синтаксиса.
Способ реанимации таких слов, на наш взгляд, один. Это, так сказать, иронично-образная игра с ними. Словообразовательная, образно-контекстуальная игра. Игра — без «заныривания» в откровенную сниженно-бранную сферу. И в то же время — развивающая чувство языка. К примеру, уменьшительно-ласкательная суффиксация, каламбуры и т. п. «Подлохвостик». «Подлократия». «Заподлоподозрить в неподобающих поступках». Казалось бы, парадокс, но истинное чувство нормы воспитывается именно через творческую игру.
И все это особенно значимо при работе с еще «лингвистически не упущенными» детьми.
ПРАВДА
Слово индоевропейское, общеславянское. Этимология прозрачна и ясна. Онтологически концепт «правда» (от «право») по своему семантическому статусу в русском языковом сознании, по позиции в иерархии ценностей близок к концепту «совесть». Не случайно они часто контекстуально соседствуют в русских сакральных текстах, включая и «условно сакральные» тексты русской классики. Пожалуй, сюда следует добавить и слово «добро». Может быть, «нравственность». В целом, кстати, можно говорить, воспользовавшись расхожей лингвистической терминологией, о неких парадигматических и синтагматических смысловых лучах. Парадигматический луч — луч «вертикальный», диахронический, историко-этимологический (или нарочито ложноэтимологический: см., например, «совесть-совет»). Синтагматический луч — контекстуальный, синхронический. Слова-концентры «тянутся» друг к другу, чисто статистически — частотно попадая в совместный «малый контекст» (толстовское «добро, простота и правда», шукшинское «нравственность есть правда» и т. п.).