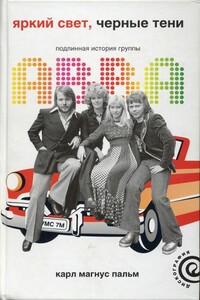История западноевропейской музыки до 1789 года. Том 1 (до XVIII века) | страница 48
К сожалению, мы судим о путях средневековой музыки до известной степени выборочно. По состоянию источников невозможно проследить конкретные связи, например, в развитии многоголосия между его источниками на Британских островах и его формами на континенте, в частности, на ранних этапах. Невозможно точно представить, как именно проявлялись черты близости между народной музыкой средневековья (которая не фиксировалась) — и искусством трубадуров, труверов, миннезингеров. Еще менее ясны связи раннего многоголосия с практикой народных музыкантов, хотя теоретически совершенно ясно, что вокальное многоголосие не могло быть попросту «изобретено» на рубеже первого и второго тысячелетий! В итоге вполне точные, документально подтвержденные (в литературных текстах и нотных записях) сведения по истории музыкальной культуры средневековья соединяются у исследователей с более или менее убедительными предположениями, домыслами, гипотезами, без которых невозможно обойтись в освещении данного исторического процесса.
Между тем на огромном, в подробностях плохо различимом историческом фоне вырисовываются поистине грандиозные художественные события: десятилетиями идет строительство крупнейших сооружений романского и готического стилей, создаются великие памятники литературы, впервые в мире последовательно развивается многоголосная музыка и ее сложные формы, впервые выступают значительные индивидуальности поэтов-композиторов, оставляющих обширное творческое наследие. Нельзя, однако, упускать из виду своеобразное для эпохи соотношение этих художественных вершин — и культурного уровня всего общества в целом, всей массы людей, наполняющих территорию Западной Европы. Как известно, даже простая грамотность в те времена была достоянием лишь очень узких кругов общества — при всем возможном различии между странами, государствами, городами, народами в их исторических судьбах. Тем удивительней, тем чудесней представляется подъем художественных сил, которым несомненно отмечена эта эпоха. И тем досаднее, что, угадывая по многим признакам воздействие народного искусства на высокопрофессиональные его формы, мы лишены возможности на реальных примерах установить и доказать существование коренных, почвенных связей между искусством узких по тому времени избранных кругов — и художественным мировосприятием широких народных масс.
Сколь значительно ни было для развития средневековой культуры время, которое порой обозначается за рубежом как «Каролингский Ренессанс» (VIII-IX века), оно не принесло с собой таких значительных сдвигов, таких исторических следствий, какие принесли столетия позднего средневековья, предшествующие наступлению эпохи действительного Ренессанса. В VIII-IX веках еще не сложились общественные предпосылки, которые были необходимы для интенсивного развития новых форм искусства и для возникновения в принципе возможной общности между различными его центрами, школами, течениями. В XII-XIII веках эти предпосылки уже создавались в связи с определенным этапом в развитии феодализма — хотя и не вполне равномерном в разных частях Западной Европы, но все же проходившем в определенном направлении. Понадобилась многовековая подготовка, чтобы наступил наконец этот исторический этап.