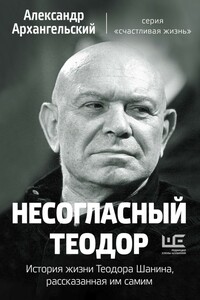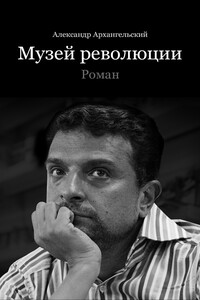Русофил | страница 53
– Эдуард, по-моему, это ваша рукопись?
– Да, – слегка растерялся он.
– Берите.
– Откуда она у вас?
– Передал посредник, пожелавший остаться неизвестным.
Он был немножко удивлён, но я действительно не знал тогда и не знаю до сих пор, какими путями рукопись добралась до меня. Пути эти были многообразны и подчас таинственны. Иногда тайны развеивались, и мы теперь знаем, как в Швейцарию попала копия романа Гроссмана “Жизнь и судьба”. Неоценимую роль в её публикации на Западе сыграли Симон Маркиш и Ефим Эткинд; позже Симон написал свою прекрасную работу о Гроссмане. Рукопись “Жизни и судьбы” поступила к моему сербскому другу, жителю Лозанны, издателю Владимиру Дмитриевичу (так в своё время оказались у него и “Зияющие высоты” Зиновьева). И он блестяще рискнул, потому что как издатель умел и любил рисковать. И выиграл – как с Гроссманом, так и с Зиновьевым.
Помню, как он в Париже передал мне машинопись “Зияющих высот” и попросил сказать, что я о ней думаю. Я отправлялся в Бретань, к родителям, взял с собой в поезд, прочитал не отрываясь, был потрясён оригинальностью этого текста, тут же позвонил Владимиру:
– Это надо немедленно брать.
Он, проверяя себя, поручил ознакомиться с рукописью ещё и Михаилу Геллеру, знаменитому диссиденту и историку, автору многотомной истории советской империи, написанной совместно с Александром Некричем. И Михаил Геллер тоже немедленно сказал:
– Бери.
Конечно, Владимир Дмитриевич не оформлял права на выпуск книги: когда речь шла о диссидентских текстах, такого документа просто не могло быть. Что иногда имело свои последствия, как в случае с Гроссманом, чьи права потом оспорили, а иногда заканчивалось счастливо, как с Зиновьевым, который через два-три года после “Высот” перебрался к нам на Запад. И началась отдельная сложная и символическая история об отношениях издателя со своим писателем и писателя – со своим издателем.
Глава 9
Наука и вера
Из католиков в протестанты. – Из профессоров в священники. – “Можем вас крестить! – Спасибо, не надо”. – “Проходите, голубчики!”
Долгое время Александр Зиновьев объяснял нам, что Советский Союз – навсегда. Минимум на тысячу лет. И даже в начале “перестройки”, которую он объявил “катастройкой”, Зиновьев утверждал, что ничего не изменится, всё будет идти как идёт. И был не одинок в своём пессимизме: скепсис относительно будущего России считался тогда единственно приемлемой нормой. На этом фоне тяжело было объяснять другим, что изнутри всё советское уже сгнило и опустошилось, что идеология потеряла ту силу, которую она имела во времена Пьера Паскаля, когда сотни тысяч людей в большевистской России, хочешь или не хочешь, а нужно признать, верили, что создадут нового человека, добьются истинного равенства, будут заслуженно карать богачей, кулаков, всех эксплуататоров народа. Этот энтузиазм сохранялся даже во второй половине 1950-х, когда я был московским стажёром. Я видел настоящих активистов, спорил с ними, одновременно пытался их понять. Но в семидесятые годы большинство населения никаких идеалов революции не разделяло. И дети номенклатуры пели Высоцкого, а официальных певцов презирали.