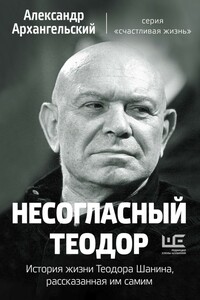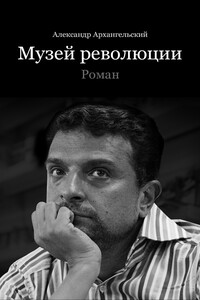Русофил | страница 51
При этом Польша, как всегда, хитрила. Для меня, француза, было удивительно наблюдать за тем, как идущие строем по Варшаве или Кракову солдаты Польской народной армии демонстративно останавливаются и крестятся перед любым храмом. Во Франции такое проявление публичной религиозности было немыслимо, в Советском Союзе – тем более. А Польша освобождалась от ига своей соседки России благодаря католицизму. Поэтому – отчасти поэтому – в храмах было очень многолюдно. Я, бывая в Кракове, обязательно заходил в костёл Святой Анны, академический храм Ягеллонского университета. В церковном подвале, между прочим, проходили собрания, конференции, читались доклады, протекала чрезвычайно интенсивная интеллектуальная жизнь.
Во время военного положения начала восьмидесятых я оказался в Кракове на конференции о Борисе Пастернаке. Просторный зал. Огромный портрет Кажимира III. Нет многих знакомых, которые должны были приехать, – слависта Анджея Дравича, поэта и переводчика Виктора Ворошильского: из-за военного положения они сидят пусть не в тюрьмах, а в бывших скаутских лагерях, но сидят. Я – единственный иностранец в зале. Перед выступлением, чтобы никого не подвести, спрашиваю организаторов:
– Должен ли я как-то осторожно подбирать слова?
– Говорите, что хотите. И можете прямо сказать, что Пастернак сидел в ГУЛАГе.
– Ну, вот этого я говорить не собираюсь.
– Почему?
– Потому что он в ГУЛАГе не сидел.
Я выступил в этом торжественном месте, а на следующий день в зале появляются Ворошильский и Дравич, потому что генерал Ярузельский их освободил. О, ура! И сплошной праздник – пышно, радостно, с большим пафосом, как любит Польша. Она умеет и враждовать, и мириться, что впоследствии доказала дружба одного из лидеров “Солидарности” Адама Михника и Войцеха Ярузельского, бывшего политического узника и генерала, который его сажал. Они помирились после того, как Ярузельский объяснил Михнику, почему он принял меры во избежание ввода советских войск, выбирая между оккупацией и мягкой внутренней посадкой. Видимо, убедил. За что Михника сегодня многие ругают, конечно. А тогда мы были воспламенены “Солидарностью”, героизмом Валенсы, простого рабочего, который повёл за собой народ (Валенсу тоже сегодня обвиняют во всех грехах, и делают это самым возмутительным образом).
В СССР такого открытого противостояния не было, хотя закрытое, диссидентское, до поры до времени нарастало. Кое-кому я помог, иногда что-то перевозил через границу. Бог миловал, особо не попадался, хотя явно следили. Например, мы случайным образом столкнулись в Центральном государственном архиве литературы и искусства с диссидентом, философом, искусствоведом Евгением Барабановым. Мы были знакомы через Харджиева, увидели друг друга за соседними столами, вышли вместе пообедать, что было тогда нелёгкой задачей – возле здания архива сплошь какие-то отвратительные закусочные. С трудом что-то нашли, долго говорили, несколько часов отсутствовали. И когда через два дня я летел в Женеву, меня досматривали с особым рвением. В КГБ, похоже, решили, что он передал через меня свою рукопись. Шмон длился три часа. Самолёт ждал.