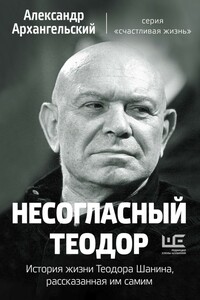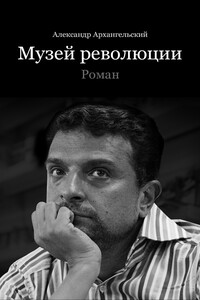Русофил | страница 26
– Елена Цезаревна, не я переводчик в данном случае, но Люсиль носит мою фамилию, и мы не имеем права воспроизводить клевету, это с моей стороны было бы предательством по отношению к Ольге Всеволодовне.
– Хорошо, – ответила она, – но вы же сами понимаете, дорогой Жорж, каков будет ответ, когда я спрошу мать, можно ли убрать это свидетельство.
– Скажите, что французский издатель хочет немножко сократить текст, что, кстати, полная правда: он – хочет. А что именно – скажем, если она сама спросит.
– Ладно, беру это на себя.
К счастью, Лидия Корнеевна вникать не стала.
“Законная” семья Пастернака Ивинскую тоже не жаловала. В особенности я это чувствовал, разговаривая с его сыном, Евгением Борисовичем, который впоследствии в своих книгах повторял об Ольге Всеволодовне одно и то же, и на этих характеристиках тоже лежит, так сказать, тень неприятия. Но сейчас Анна Пастернак (внучатая племянница поэта) выпустила книгу “Лара”, в которой она как бы от имени от имени всех Пастернаков реабилитирует Ольгу Всеволодовну и “кается” за то, что семейство было к ней несправедливо.
Я тогда был абсолютно поглощён своей влюблённостью в дочь Ивинской Ирину Емельянову, встречами и общением с Борисом Леонидовичем, на которого после выхода “Доктора Живаго” за границей и скандала вокруг Нобелевской премии обрушились преследования. Я практически не жил на Ленинских горах, обитал либо в Потаповском переулке, либо в Баковке, недалеко от Переделкина: Ивинские снимали там домик. Навсегда я запомнил мостик над небольшим прудом. Я столько раз видел, как Борис Леонидович шёл по нему, иногда с полотенцем через плечо, после купания, даже в самой холодной воде. Иногда я оставался с ним один на один, и мы вели длинные и откровенные беседы. В том числе – о его отношениях с Ольгой Всеволодовной, о том, как он страдает, как его преследует чувство вины за то двойственное положение, в которое он поставил Ивинскую и себя. И что он должен был бы после её возвращения из лагеря покинуть официальную семью и уйти к Ольге Всеволодовне. Я, честно сказать, испытывал некую неловкость – великий поэт исповедовался передо мной, юным стажёром.
Я снял комнату и веранду недалеко от Ивинских, на расстоянии ста пятидесяти метров, у тамошних колхозников. Объявить, что я иностранец, было решительно невозможно, они бы не сдали. Я назвался литовцем, они поверили, принимали мой акцент за балтийский, с интересом расспрашивали:
– Ну, Жора, расскажи нам про Литву.