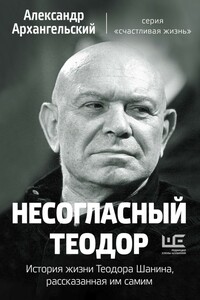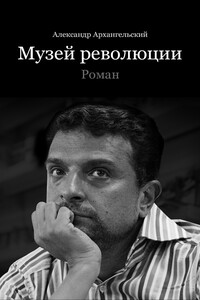Русофил | страница 25
В полном собрании писем Берлина, изданном одним из его учеников, опубликован фрагмент его ответа на мои возражения: я спорил с его концепцией русской культуры, в которую не втискивались Достоевский, Григорьев, Хомяков, говорил о том её “тёмном – по выражению Берлина – лике”, который полностью отличался от прославленной им “светлой стороны”, герценовской, социалистической. Он отвечал, что к началу 1950-го разочаровался в философии и увлёкся русским девятнадцатым столетием, морально и психологически более близким ему, чем западная рациональность. Но многое даже в этом блестящем столетии остаётся чужим и чуждым…
А ещё благодаря англистике сложились мои пожизненные дружбы – в том числе с японским историком Нобутоши Хагихара; мы сблизились на стажировке в Оксфорде. Между прочим, он был приятным лентяем, и мы с другим историком Филиппом Виндзором изумлялись – как японец может быть таким бездельником? Мы не раз по ночам дописывали за него завтрашний доклад. Он же, по его собственному выражению, “сло́ва не мог думать”.
Спустя годы я поехал к нему в Токио и стал свидетелем того, как бегали за ним курьеры из самого известного культурного еженедельника, где он публиковал свои хроники. Хитрец! Он нарочно пропускал одно слово и отправлял текст недоделанным, выигрывая дополнительное время. Это было очень смешно. Дома он писал кистью, в дороге дописывал каким-то экзотическим пером; помню, мы ехали на эскалаторе, а Нобутоши всё ещё ждал поэтического вдохновения. Курьер, не смея приближаться к нам, в полупоклоне ждал на несколько ступенек ниже. Наконец вдохновение пришло, мой друг вписал пропущенный иероглиф, посланец трепетно принял лист и стремительно побежал по ступеням, потому что номер уходил в типографию.
Именно благодаря Нобутоши я познакомился с будущим японским императором, тогда – кронпринцем. Меня долго учили, как себя вести: “Точно так же, как со всеми остальными людьми, то есть не подходите ближе чем на три метра и кланяйтесь”.
Но это – потом. А в Советский Союз я вернулся спустя английскую паузу, в 1959 году. И первым делом отправился в Потаповский переулок. Мне многое было непонятно в атмосфере, окружавшей Ольгу Всеволодовну, на которую я одно время смотрел как на вторую мать. Статусная интеллигенция её как будто сторонилась, словно ревновала, что к ней испытывает чувства Борис Леонидович: а за какие такие заслуги? Почему не к нам? Мне было очень неприятно слышать клевету на Ивинскую, а впоследствии – читать её, даже в такой замечательной книге, как “Записки об Анне Ахматовой” Лидии Чуковской, где она повторяет слух, будто бы Ольга Всеволодовна украла посылку, предназначенную солагернице. Суть этого дела я знаю очень хорошо: солагерница, освободившись, приезжала к Ивинской, публично подтверждала, что никакой кражи не было. Да и быть не могло. Так что впоследствии, когда моя жена Люсиль переводила на французский язык книгу Лидии Корнеевны (а Чуковская тогда ещё была жива), я позвонил её дочери, Елене Цезаревне: