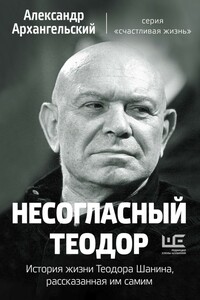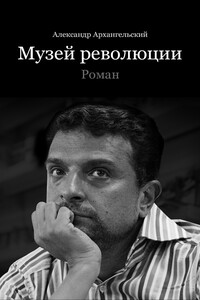Русофил | страница 21
Впрочем, были вещи, которые мне казались привлекательными. Например, отсутствие изобилия в магазинах. Всего – по одному. Лыжи – одной марки, ткань – одной фактуры, конфеты – одного сорта. Может быть, во мне тогда говорил ученик Пьера Паскаля, но мне простота выбора нравилась.
Потом я познакомился с поэтом Марком Таловым, который первую половину своей жизни провёл в Париже, был связан с русским Монпарнасом, с Гийомом Аполлинером, Пикассо, Матиссом, Ремизовым. Он вернулся в начале двадцатых, жил в Москве, переводил со многих языков. Например, он перевёл всего Малларме – издано это было позже, уже после его смерти.
Я помню, он сидит у окна, слушает меня, отвечает, но время от времени внимательно смотрит на улицу… Я сначала не понимал зачем, а потом догадался: он проверяет, нет ли там спецмашины, то есть слежки за мной. И не знает, радоваться ли моему визиту или страшиться…
Никогда не забуду ужас, отразившийся на лице свояченицы Пьера Паскаля Аниты, которую я навестил в московской коммунальной квартире возле Октябрьской площади. Она, как было уже сказано, провела долгие годы в ГУЛАГе; я был для неё как представитель западного мира, исчезнувшего в конце двадцатых годов; мира, на новую встречу с которым она уже не надеялась – и которой в то же время смертельно боялась.
Но были и те, кто не очень боялся. Один молодой человек мне предложил:
– Хочешь, я тебя познакомлю с семьёй, где все сидели?
Я никак не мог взять в толк, что он имеет в виду, потому что слово “сидеть” в этом значении ни Георгий Георгиевич Никитин, ни Пётр Карлович Паскаль, ни Николай Авдеевич Оцуп мне не объясняли.
Разобравшись, в чём дело, я ответил:
– Да, хочу.
Так я впервые оказался в семье Ольги Всеволодовны Ивинской.
Потаповский переулок. Дом тридцатых годов, то есть полностью советский. Хорошая квартира, в которой жили её мать (она тоже сидела), дочь Ирина и младший сын Митя. Внизу, на скамеечке, всегда были какие-то бабушки бдительные, и мне казалось, что они следят, когда я вхожу, ухожу. Особенно строго и осуждающе они смотрели на новых, в первый раз входивших в дом молодых людей и женщин: хорошо ли, пристойно ли они одеты, или – кофточка обтягивающая, брюки узкие – как не стыдно, нельзя же так! Бабушки были частью общей системы советской бдительности. Жан-Поль Семон, мой близкий друг, будущий великий лингвист, носил бородку, что в тогдашнем Советском Союзе было уделом попов. И я помню, как в автобусе одна женщина громко сказала: