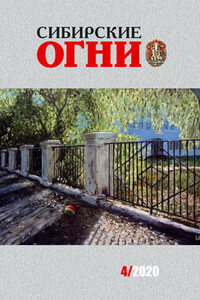Теория и практика создания пьесы и киносценария | страница 45
Шлегель отрицает Аристотеля, но его замечания о «Поэтике» содержат самую важную мысль, которую он когда-либо высказывал. Ему не по душе было то, что он называл «анатомическими идеями» Аристотеля. Возражая против механистического понимания действия, он сделал глубокое замечание о значении воли: «Что такое действие?.. В высшем, должном понимании действие — это деятельность, зависящая от воли человека. Единство действия заключено в стремлении к единой цели; завершенности действия способствует все, что лежит между первоначальным решением и осуществлением самого деяния». Единство античной трагедии он объяснил следующим образом: «Ее абсолютное начало есть утверждение свободы воли, а абсолютный конец — признание необходимости».
К сожалению, Шлегель не сумел продолжить анализ единства в свете этих положений; этим путем он мог бы разработать практическое применение теории трагического конфликта. Но Шлегелю мешала метафизичность его взглядов. Распахнув двери перед обсуждением единства, он вновь с поразительной поспешностью захлопнул их, заявив, что «идея Единого и Целого никоим образом не вытекает из опыта, но возникает из первичной и стихийной деятельности человеческого сознания... Я требую более глубокого, более проникновенного и более таинственного единства, чем то, которым довольствуется большинство критиков».
Критические высказывания Кольриджа напоминают высказывания Шлегеля; замечания его глубоки и оригинальны, но любое четкое положение растворяется в общих рассуждениях: «Идеал серьезной поэзии заключается в единении, гармоническом слиянии, растворении чувственного в духовном, преобразовании человека-животного в человека — властителя разума и воли». Но власть разума достижима лишь в том случае, «если дух пронизывает всю плоть, если тело одухотворено до состояния экстаза и, словно прозрачная субстанция, материя в своей естественной тьме целиком становится проводником света». Кольридж также остановился и на вопросе свободы воли и необходимости, но заключил, что решение его сводится к «положению, при котором противоречия внутренней свободной воли с внешней необходимостью, образующие истинную тему для трагика, примиряются и разрешаются».
В 1827 году произошло запоздалое, но сенсационное вторжение романтизма во французский театр. Знаменосцем нового движения стал Виктор Гюго. Его обращение в новую веру было внезапным, и он провозгласил о нем с сокрушающей силой в предисловии к своей пьесе «Кромвель», в октябре 1827 года. Гюго и драматурги, объединившиеся вокруг него, в своих пьесах в большей или меньшей степени следовали шекспировским образцам и занимали ведущее положение во французском театре того периода. Романтизм в Германии уже миновал зенит своего развития и стал теперь искусственным и напыщенным. Эти тенденции нашли свое отражение и в творчестве Гюго; его драмам недоставало глубины Гёте и пылкости Шелли. Но его творчество представляет собой важное звено в развитии романтизма. Гюго стремился спустить романтизм на землю, ослабить его метафизическое содержание, сделать его натуралистическим. Предисловие к «Кромвелю» он начал смелым заявлением: «И вот перед нами новая религия и новое общество; на этой двойной основе должна была возникнуть новая поэзия... Собьем старую штукатурку, скрывающую фасад искусства. Нет ни правил, ни образцов; или вернее нет иных правил, кроме общих законов природы». Центральным моментом концепции романтической драмы Гюго является идея гротеска: «Итак, гротеск составляет одну из величайших красот драмы». Однако гротеск не может существовать сам по себе. Мы должны добиться «совершенно естественного сочетания двух начал, величественного и гротескного, которые встречаются в театре так же, как они встречаются в жизни и вселенной». Совершенно очевидно, что «гротескное» и «величественное» означают все те же материальный мир и мир духа. Гюго говорит, что «первое из них представляет животное начало в человеке, второе — душу». Мысль Гюго в точности совпадает с идеями Шлегеля и Кольриджа: драма отражает «непрерывную борьбу двух противоположных начал, которые всегда сталкиваются в жизни, оспаривая власть над человеком от колыбели до могилы».