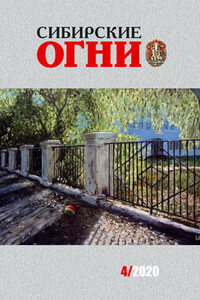Теория и практика создания пьесы и киносценария | страница 44
Первым критиком, принадлежавшим к школе романтизма, был Иоганн Готфрид Гердер, деятельный член Веймарского кружка, умерший в 1803 году. Брандес говорит, что Гердер явился «основоположником новой концепции гениальности, а именно — что гениальность интуитивна, что она проявляется в определенной способности создавать и постигать, не обращаясь к абстракциям».
Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг развил ту же теорию, придав ей более философскую форму. Он утверждал, что работа сознания покрыта тайной и что существует особый дар «интеллектуальной интуиции», который позволяет гению переступать границы разума.
Однако есть среди представителей немецкой критической мысли того периода один человек, намного превосходящий всех других. В 1808 году в Вене читал свои знаменитые лекции по драматическому искусству Август Вильгельм Шлегель. Сделанный им обзор истории театра все еще представляет значительный интерес для тех, кто изучает искусство драматургии; особой глубиной проникновения отличается его анализ шекспировского наследства. Но вся теория Шлегеля пронизана идеей неповторимости души. Философия романтизма приобретает у него особую четкость: в трагедии «мы созерцаем соотношения нашего существования с пределом всех возможностей». Эти возможности приводят нас к бесконечности: «Все конечное и смертное теряется в созерцании бесконечности». Таким образом мы приходим к знакомому дуализму материи и сознания: поэзия стремится покончить с этим «внутренним разладом», «примирить два мира, между которыми мы мечемся, и неразрывными узами связать их воедино. Наши ощущения, так сказать, освящаются благодаря таинственной связи с чувствами высшего порядка; с другой стороны, душа воплощает свои предчувствия, или непередаваемое интуитивное постижение бесконечности, в образах и символах, заимствованных из мира зримых вещей».
Эта теория заслуживает весьма пристального внимания: во-первых, мы видим, что она по необходимости субъективна. Говоря словами самого Шлегеля, «чувства современных людей в целом обращены более вовнутрь, склонности их менее вещественны, а мысли — более созерцательны». Во-вторых, мы встречаем упоминание об «образах и символах», впоследствии развившихся в метод экспрессионизма. В-третьих, Шлегель предлагает, чтобы драматург занимался «чувствами высшего порядка», а не насущными социальными проблемами. Шлегель осуждал Еврипида за то, что тот не сумел с достаточной силой отобразить «внутреннюю агонию души»: «Ему нравится низводить своих героев до положения нищих, заставляя их страдать, голодать и бедствовать». Шлегель относится отрицательно к аналитической глубине Лессинга и к социальной направленности его взглядов. Он обвинял Лессинга в желании превратить искусство в «голое подражание природе»: «Упорная вера Лессинга в Аристотеля, а также влияние, которое на него оказали сочинения Дидро, породили странное смешение в его теории драматического искусства». Шлегель считал «Вертера» Гёте желанным противоядием против влияния Лессинга, «декларацией прав чувства против тирании социальных отношений».