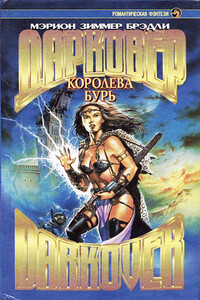Теория и практика создания пьесы и киносценария | страница 37
Эта особенность романтизма объясняется возникающим в начале XIX века равновесием социальных сил. Вслед за бурями, завершившими предыдущие столетия, среднее сословие перешло к консолидации своей мощи; машинное производство ознаменовало первую фазу промышленной экспансии, которой суждено было привести к современной монополистической индустрии. Духовная жизнь буржуазии теперь характеризовалась умеренностью, стремлением к самовыражению и рьяным национализмом. В Германии буржуазия развивалась не так быстро, как во Франции и в Англии; лишь с 1848 года Германия выступила на мировой арене как промышленная и политическая сила. Отражением ее слабости в начале века и был немецкий романтизм, соединявший в себе стремление к более содержательной личной жизни, стремление исследовать действительный мир со стремлением отыскать безопасное прибежище, обрести надежное постоянство.
В «Главнейших течениях европейской литературы девятнадцатого века» Георг Брандес (1842—1927) подчеркивает как национализм рассматриваемого периода, так и романтическую тенденцию тяготения к прошлому: «Патриотизм, который в 1813 году изгнал врага из страны, содержал в себе две абсолютно отличные друг от друга черты: исторически-ретроспективное начало, скоро развившееся в романтизм, и прогрессивное направление с либеральным уклоном, которое развилось в новый либерализм». Но по сути дела оба эти направления развивались внутри самого романтизма. Мы уже указывали на двойственный характер философии Канта. Эта двойственность нашла свое драматургическое воплощение в пьесах Гёте и Шиллера.
Гёте работал над «Фаустом» в течение всей своей жизни; первые наброски трагедии он сделал в 1769 году, когда ему было двадцать лет, а закончил ее за несколько лет до смерти, последовавшей в 1832 году. Дуализм материи и сознания проявляется уже в пост роении «Фауста». Яркая личная драма первой части заканчивается гибелью Маргариты и спасением ее души. Во второй части, отличающейся исключительной сложностью, дается анализ нравственного закона, лежащего вне границ мира физических явлений.
Поучительно сравнивать, что сделали из одной и той же легенды Гёте и Марло. Елизаветинской эпохе были неведомы метафизические размышления. Тезис Марло прост: знание — это власть; оно может быть опасным, но оно бесконечно желанно. Для Гёте знание — это страдания, муки души, борющейся с ограниченностью конечного мира. Гёте верил, что зло не может полностью овладеть душой, потому что душа не принадлежит человеку; и в конце концов она должна воссоединиться с божественной волей. Елена у Марло воплощает чувственное наслаждение. А для Гёте Елена символизирует нравственное возрождение через идею красоты. В конце второй части Мефистофелю не удается овладеть душой Фауста, которую ангелы уносят на небеса. Фауста спасает не акт его собственной воли, а вечный закон (вложенный в заключительные слова Мистического хора), который провозглашает, что душа — это образ совершенного.