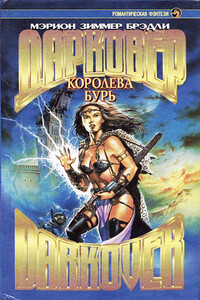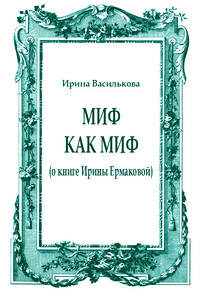Теория и практика создания пьесы и киносценария | страница 29
Из этого следует, что единство действия перестает быть схоластическим понятием, а становится результатом органического развития и движения, чего драматург добивается путем соответствующего отбора материала. «В природе все тесно связано одно с другим, все перекрещивается, чередуется, преобразуется одно в другое. Но в силу такого бесконечного разнообразия она представляет собой только зрелище для бесконечного духа. Чтобы существа ограниченные могли принимать участие в наслаждении ею, они должны обладать способностью предписывать ей известные границы, которых у нее нет, способностью абстрагировать и направлять свое внимание по собственному усмотрению». «Этой способностью мы пользуемся во все моменты нашей жизни; без нее наша жизнь была бы немыслима; вследствие бесконечного разнообразия ощущений мы ничего бы не ощущали... Все то, что мы в области природы обособляем или желаем обособить в нашем уме от предмета или от группы разных предметов, в отношении времени или пространства, искусство действительно обособляет...».
Даже наиболее поверхностные высказывания Лессинга показывают, что он неизменно отстаивал правдивость в искусстве, постоянно высмеивал фальшь. Он высмеивал обычай убивать героев в последнем акте: «В самом деле, пятый акт — это какая-то злостная, ужасная зараза, сводящая в могилу многих, кому четыре первых акта сулили гораздо более долгую жизнь». Он блестяще разоблачает слабость эффекта, который построен на одной лишь неожиданности: «Того, кто в одно мгновенье сражен и уничтожен, я могу жалеть лишь одно мгновенье. Но что будет происходить во мне все то время, когда я ожидаю удара, когда я вижу, как гроза собирается над моей головой или над головой другого?»
Две центральные идеи, лежащие в основе «Гамбургской драматургии», являются отражением двух великих аспектов духовной жизни XVIII столетия — развития общественной мысли, приведшей к американской и французской революциям, и развития философской мысли, уделявшей особое внимание проблемам духа и идущей от Беркли и Юма к Канту и Гегелю.
Со времен Лессинга и до наших дней господствующие идеи, обусловившие формы развития драмы и других видов литературы и искусства, были тесно связаны с философскими идеями. В течение двух веков философия стремилась создавать системы, разумно объясняющие физическое и духовное существо человека во взаимосвязи со всей вселенной. Пожалуй, наиболее всеобъемлющими из этих систем были системы Канта и Гегеля. Значение этих попыток заключается в том, что они в систематизированном виде воплотили интеллектуальную атмосферу, особенности сознания, мировоззрение, порожденное жизнью того периода. Те же самые особенности мышления, мировоззрения и интеллектуальной атмосферы определяют (хотя и в не такой систематизированной форме) теорию и практику театра. Чтобы понять духовный мир драматурга, мы должны исследовать духовный мир его поколения, который в большей или меньшей степени отражен в философских системах.