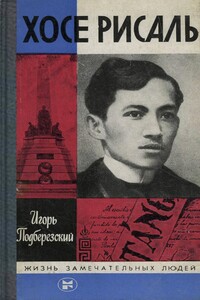Шестой этаж | страница 66
Поразительная все-таки штука профессионализм. Григорий Канович, прекрасный писатель, живущий в Вильнюсе, как-то мне рассказывал. Он зашел к своему отцу, известному в столице Литвы портному. 0тец очень сосредоточенно смотрел телевизор — выступал Межелайтис — и молча показал сыну, чтобы тот сел и ждал. Передача продолжалась довольно долго, но отец с неослабевающим вниманием следил за тем, что происходило на экране. Григорий спешил и несколько раз пытался отвлечь отца от телевизора, но ничего не получалось. Когда передача закончилась, разозлившийся сын съязвил:
— Что-то, папа, я не замечал прежде, что вас так интересуют стихи Межелайтиса.
— Какие стихи? При чем здесь стихи? — удивился отец.— Ты видел его ностюм? Я пошил его пять лет назад, а он ни с места, как будто Межелайтис надел его сегодня в первый раз.
Цикл наш был опубликован в «Музее», потом мы еще несколько рае печатали свои пародии в «Литературке». Стали печататься и в других местах: благодаря «Литературке» пародия, как говорится, пошла. Выпустили книгу пародий, подготовили вторую, которую в «Советском писателе» зарезали Лесючевский и Карпова. Но профессионалами мы так и не стали — по-прежнему веселились, ногда писали свои пародии, и от души смеялись, когда читали чужие, разумеется, хорошие.
Эти маленькие радости — сочинение пародий, колючих реплик для придуманных нами новых рубрик «Ох, уж эти читатели...», «Язык мой — враг мой» — несколько скрашивали нашу жизнь, взбадривали нас. Все-таки азарт — пробить непроходимое, обвести вокруг пальца бдительное начальство на Старой площади, вставить перо «кочетовцам», бездарным сервильным литераторам — не покидал нас. У нас не было никаких сомнений, что курс на очищение литературы от серости, раболепия, безнравственности — единственно правильный курс, диктуемый изменившимся временем. Но когда поликарповское ведомство всерьез взялось за нас, стало ясно, что если не произойдет дальнейшей сдвижки всей нашей общественной жизни влево, они нас замордуют, задушат.
Однако понимая все это, мы ни за что не хотели сворачивать с этого курса. Когда нам говорили, что курс этот гибельный, нечего переть на рожон, я отшучивался, напоминал о сказке, которую в «Капитанской дочке» рассказывает Пугачев Гриневу. ХХ съезд многое перевернул в нашем сознании, со многим стало невозможно мириться, совесть не позволяла. Опротивела законопослушность, невмоготу стало безропотно подчиняться тупым руководящим «установкам» идеологических надсмотрщиков, мутило от тех жаб, которых по их воле приходилось глотать. Конечно, изматывала ежедневная нервотрепка, постоянные угрозы и окрики, нависавшая вполне реальная перспектива вылететь из газеты да еще с таким клеймом, что потом мало кто отважится тебя печатать. Но все-таки мы уже глотнули воздуха свободы, и это опьяняло, возбуждало азарт, а там что бог даст...