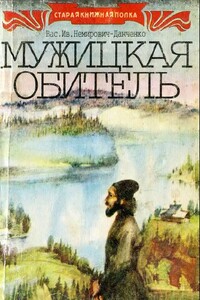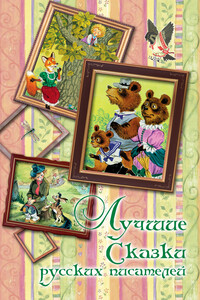Святой остаток | страница 61
Но недолго пришлось старику тешить себя этими сладкими мечтами. Уж на третий или четвертый день по свадьбе Фиона, разгневанная чем-то, молчала упорно весь день, отворачивалась от всех, косилась на людей исподлобья, стучала посудой и бросала каждую вещь из рук, вместо того чтобы ее положить или поставить. Прошло два дня, среди затиши, и старики было успокоились; но затем вдруг в друге или сердце Фионы поднялась такая страшная буря, что Дмитрич с Авдотьей просидели весь день за воротами, вздыхая, покачивая головой и поглядывая вверх, где крик, брань и проклятия раздавались с самого утра и до вечера, хотя Фиона была там одна, потому что и Степа ушел от нее в поле. Дмитрии прислушивался по временам и спрашивал вполголоса Авдотью: «Что она?» А старуха отвечала на это, кивнув головой и махнув рукой, дескать: пусть ее, молчи. «Да что она кричит еще?» – спросил старик. Авдотья повторила тот же знак, не смея даже и за воротами сказать громкого слова, чтобы лютущая Фиона его не услыхала. Так старики просидели весь день до вечера и не обедали; Фиона не звала их, потому что ничего не варила. Степан воротился с поля и, заглянув только в избу, ушел от крику и присел молча к старикам на завалинку. Поздно вечером все они улеглись, когда Фионушка выбилась из сил и уходилась.
Управился бы, может быть, в прежнее время Дмитрии с этим чертом, несмотря на всегдашнее миролюбие свое, но теперь была не та пора: он уже почти начал впадать в ребячество, до того он стал дряхлеть. Знать, пришла пора. Попытался, было, он прочитать названной сношеньке своей наставление, думал-таки усовестить ее, но она отвечала ему одним криком и бранью, а наконец ухватила два лучших поливанных горшка и грозилась сейчас же ударить их об земь, если он не замолчал: жаль стало Дмитричу горшков, и он замолчал, проворчав только: «Горшки на что бить – горшки ничем не виноваты».
Через несколько дней опять пошло то же: брань, крик и проклятия сыпались с утра на безответного мужа, на старика и старуху. Дмитрии вышел из терпения, пошел с жалобой к барину; барин очень рассердился на Фиону и приказал миру рассудить ее; мир высек ее розгами, а она, пришедши с криком и ревом домой, столкнула мужа с высокого крыльца и повыкидывала все горшки из окна. Остальное время этого дня она провыла в избе голосом при открытых окнах. Соседи приходили было ее унимать, но она выпроваживала их помелом.
Дмитрии стал крепко призадумываться, уж и сам не зная, что делать, – а житья ему со старухой не было. Поздняя осень согнала их с любимой завалинки, они поневоле сидели на печи, откуда Авдотья не сходила уже несколько дней, слабея и забываясь по временам; ухаживая за нею, Дмитрии опять, было, несколько ожил, приободрился и получил какой-то нравственный перевес в доме, но это было ненадолго: Авдотья скончалась, Дмитрии прожил с нею всего года два, но оплакивал ее горько. С этого времени он не мог уже найти дома никакого покоя; он бродил из угла в угол, копался во дворе, садился за ворота – но все оглядывался по сторонам, будто тут кого недоставало, и не знал, куда с тоски деваться. Фионушка бесновалась день за день, и Дмитричу казалось, что он жил в аду. Обед почти никогда не варился, а в избу никому не было приступа.