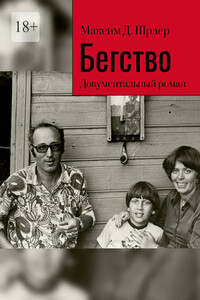Генрих Сапгир. Классик авангарда | страница 40
В разные годы, в зависимости от состояния души, аудитории, трибуны, Сапгир говорил и писал об андеграунде по-разному. В эссе «Лианозово и другие» (1997), Сапгир писал именно о «[я]рк[ом] всплеск[е] андеграунда 60-х и, особенно, 70-х годов»[244]. Кроме иебинарной оппозиции «андеграунд- богема», в спорах об андеграунде часто фигурирует еще одно противопоставление, предлагаемое бывшими участниками неофициальной литературно-художественной культуры советского послевоенного времени. Хорошо знавший Сапгира художник Виктор Пивоваров писал в недавних мемуарах: «Были правы Рабин и Немухин, как прав, абсолютно прав Генрих Сапгир, который говорил: мы не диссиденты, мы богема! Он очень хорошо понимал диссидентский характер подобных мероприятий, внутренне дистанцировался от них, не „влипал“ в них, но тем не менее участвовал»[245]. Противопоставление «диссиденты — богема» тоже не лишено натяжек, хотя оно, видимо, сильнее, чем «андеграунд versus богема». В первом противопоставлении главенствующее место занимают политика и идеология, а не эстетика и модальность и стиль жизни. На единой шкале (если таковая возможна), понятия «андеграунд», «богема», «внутренняя эмиграция», «диссиденство» — находятся не в оппозиционных, а, скорее, в комплементарных отношениях друг с другом.
В статье «Золотой век самиздата», помещенной в начале антологии «Самиздат века», одним из составителей которой был Сапгир, В. Кривулин предлагает схоластическую схему четырех направлений, «по которым развивался литературный андеграунд» — в соответствии с четырьмя основными позициями «цензурных запретов: 1) социально-политическая критика советского режима; 2) эротика и порнография; 3) религиозная пропаганда; 4) „формалистическая эстетика“»[246]. Стихи Сапгира, несомненно, попадают под рубрики 1, 2 и 4 в схеме Кривулина. С бытом и бытием Сапгира в разные годы дела обстояло гораздо сложнее. И поливалентнее. «В 1965–68 годах на Абельмановской улице снимали огромный подвал поэты Холин и Сапгир», — вспоминал Эдуард Лимонов в 1-м томе антологии Кузьминского — Ковалева (1980), в мемуарном очерке «Московская богема»: «Платили домоуправляющему деньги, и „натурой“ (водкой) тоже платили. За это они сами жили в подвале и имели право пускать во многочисленные ответвления подвала — комнаты — своих друзей. Жили на Абельмановке коммуной — сообща. Сообща ели, спали [sic] и даже писали поэмы и стихи»