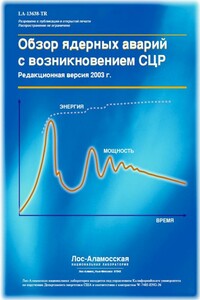История принципов физического эксперимента от античности до XVII века | страница 14
Наука Нового времени потому в действительности является по сравнению с древней наукой существенно экспериментальной, что она явным образом включает в свое познавательное отношение принцип фундаментальной самокритики, т. е. требование критики тех основоположений, которые формируют идеал познания и задают условия предметной идеализации. Именно поэтому феномен предмета в его чувственно-природной противоположности идеальному объекту (предмету теоретического анализа) не исчезает из поля зрения теоретика и служит как бы постоянным memento mori любой теоретической истины. Когда теоретическое мышление строится с внутренним сознанием своей принципиальной обусловленности (предпосылочности) и возможности иных условий идеализации, иной формы теоретического познания, эксперимент, и именно чувственно-предметный эксперимент, становится его конститутивным принципом.
Историки науки часто указывают на то, что наука Нового времени началась, когда ученые заменили схоластическую аргументацию ex verbum — от слов — аргументацией ex res — от вещей. Смысл этого события, однако, становится яснее, если эту историческую ситуацию рассмотреть подробнее. Для нее как раз характерно сосуществование множества возможных теоретических идеалов. К этому времени средневековый аристотелизм распался на несколько полемически настроенных друг к другу школ. Наряду с этим трудами гуманистов, механиков и математиков были воспроизведены забытые формы античной научной культуры. Ощутимо уже давал о себе знать дух нового механико-математического подхода к природе. Весь этот мир, кроме того, находился в постоянном интенсивном общении; идеалы научного знания сталкивались, сопоставлялись, преобразовывались. Именно в эту эпоху звучит призыв Ф. Бэкона вернуться к вещам самим по себе. Он поносит надменность самостийного ума, постоянно впадающего в иллюзии. Он требует от мышления смиренного внимания к тому, что бесконечно превосходит все умствования и идеалы,— к природе в ее первозданной самобытности. В споре теоретиков как будто бы должна взять слово и высказаться сама природа.
Правда, в этом прилежном исследовании природы вещей мы не должны обманываться случайными, несущественными, только запутывающими разум частностями. В потемках природы надо сначала зажечь факел разума. Надо стремиться к объективности, всеобщности...— иными словами, теоретичности знания. Круг замыкается, и мы снова у исходного пункта. Возвращение к природе на деле оказалось лишь переходом к новому идеалу.