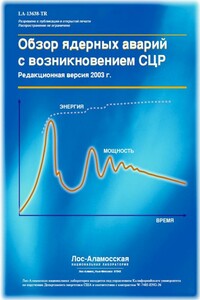История принципов физического эксперимента от античности до XVII века | страница 13
Однако, чем более углубляется в себя теоретическая мысль, чем более расширяет она границы своей общности, чем более строгой она становится, чем адекватнее она, казалось бы, воспроизводит свой предмет, тем ближе подходит она к радикальнейшему экспериментированию, тем отчетливее начинает она отличать себя в качестве мысли от превышающего ее в своей содержательности предмета. Расширяя сферу своей применимости, теория отчетливо очерчивает область противоречащих ей фактов, которые раньше затерялись бы в скоплении фактического материала. Попытка свести воедино основоположения заставляет увидеть пределы тех идеализации, в которых были сформулированы фундаментальные понятия (например, сила, масса, абсолютное пространство). Анализ самого теоретического идеала, согласно которому строилась экспериментальная схема, обрабатывались (интерпретировались) результаты эксперимента и формировались понятия, приводит к выяснению его внутренних границ, к открытию, следовательно, возможности радикально иной идеи познания.
Как правило, этот момент «идейного» преобразования не включается в анализ формирования теоретического понятия, а это сильно сужает проблему эксперимента. Кажется, что понятие, схематизированное в идеальном образе, есть все, что объективно можно сказать о предмете. Все остальные характеристики предмета случайны или субъективны, они относятся не к самой сути дела, а к условиям и обстоятельствам. Но это только одна сторона дела, которую и выделить-то в реальной научной деятельности можно лишь условно. Однако в истории науки можно указать периоды и целые эпохи (в особенности это относится к древности), когда господствует именно это движение мысли: идеализованный объект есть идеальный предмет, предмет, взятый в объективно истинном виде, в форме, свободной от случайных для предмета привнесений эмпирического окружения. Процесс теоретического размышления устремлен к завершению в истинном созерцании, иначе говоря, в созерцании истинного предмета.
Самостоятельная экспериментальная деятельность выступает на первый план и занимает положение, равноправное с теоретическим мышлением, там, где отчетливо обнаруживается противоположное движение, и теоретическое мышление само отличает себя (в качестве абстрагирующего, идеализирующего) от содержательного, конкретного, чувственного предмета, с которым ученый снова и снова вступает в контакт в эксперименте. Если в первом движении идея истины, в свете которой теоретически постигался предмет, представляется по сути своей идеей полноты, цельности, актуальности, а исходный чувственный предмет кажется единичным и случайным, то в противодвижении научной мысли исходным предметом сомнения и критики выступает именно идея познания. Теоретическое мышление обнаруживает свою условность в том, что находит в своем содержательном идеале, вообще говоря, искусственные (случайные для исследуемого предмета) ограничения (условия идеализации), неправомерные при ближайшем рассмотрении постулаты, непродуманные (субъективно выбранные) предпосылки. Теоретик находит, что идеал, в свете которого строилась вся его познавательная работа, исторически ограничен и может быть в целом подвергнут пересмотру.